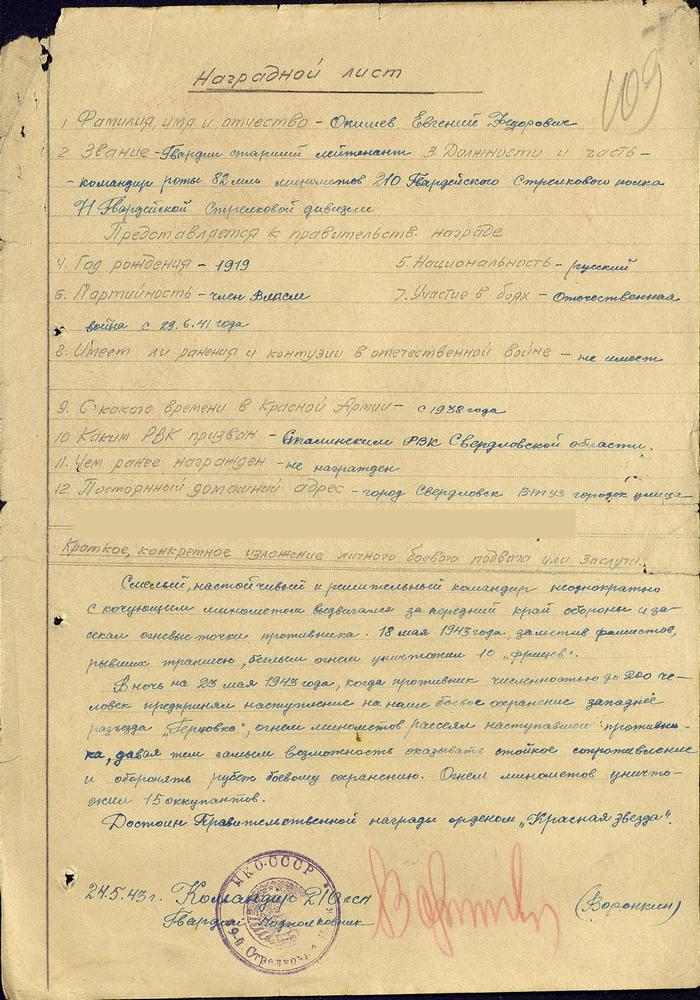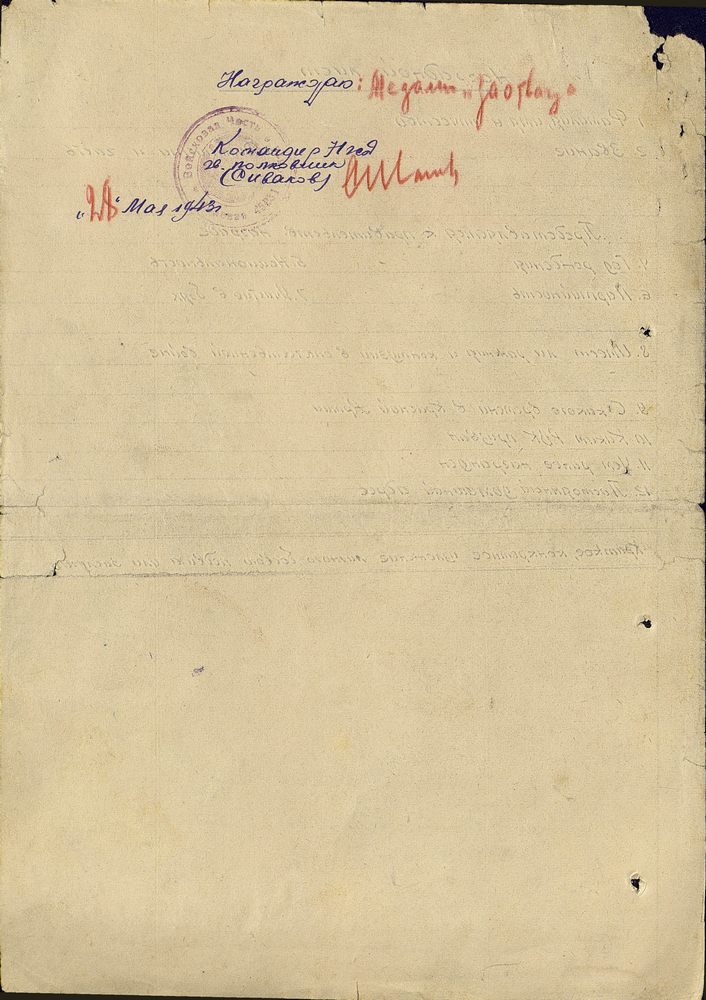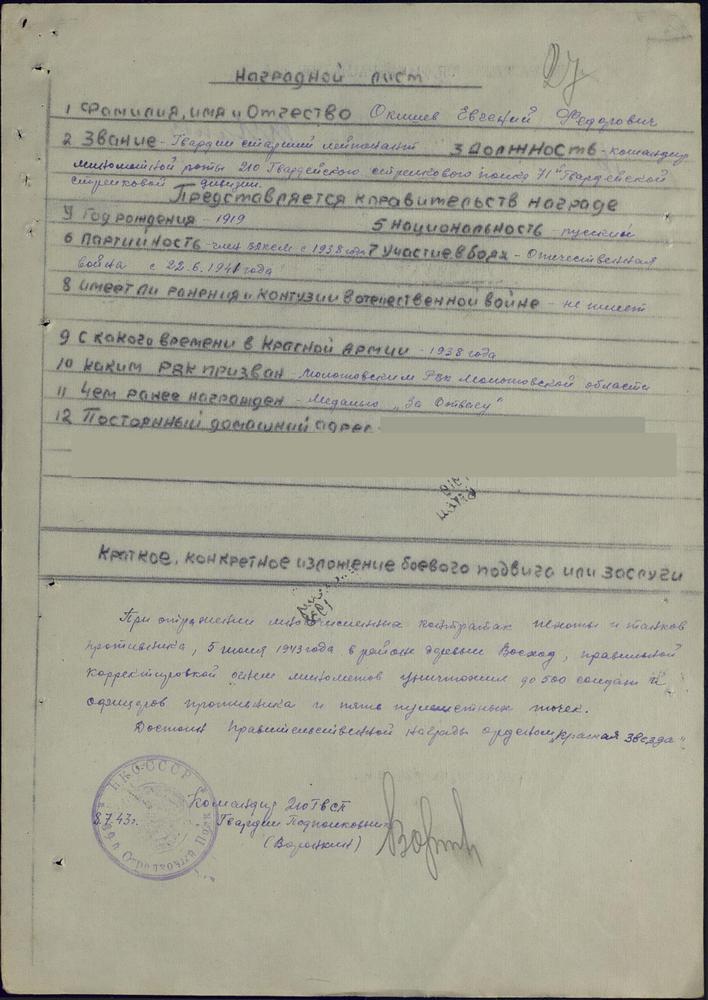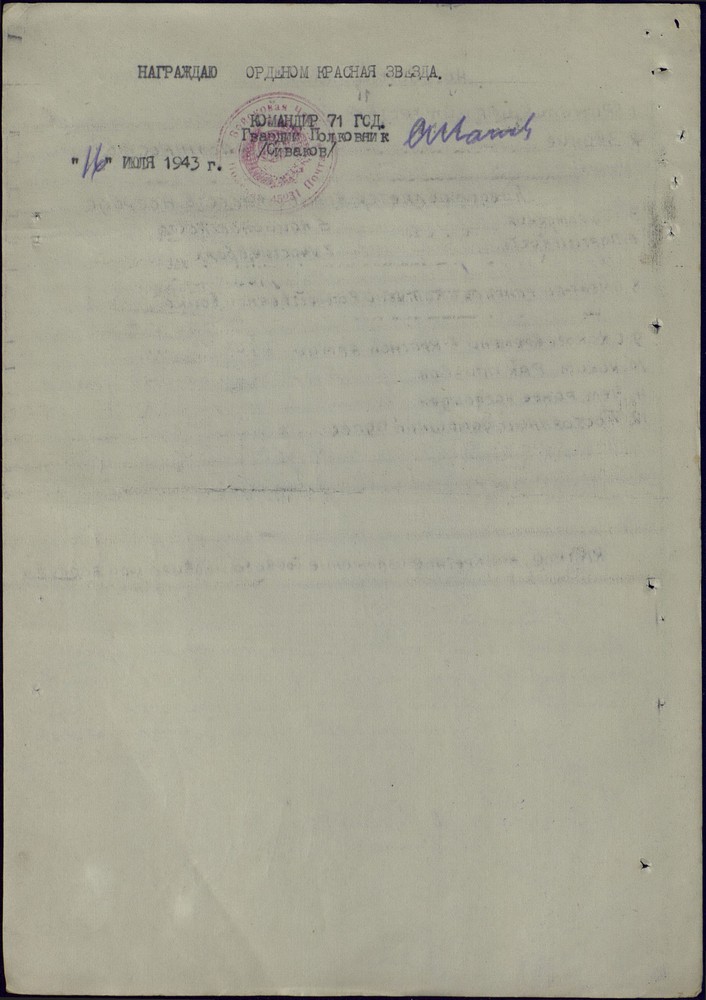Я родился 19 февраля 1919 года в городе Перми. Вообще-то наша семья тогда жила в Кунгуре, но во время Гражданской войны, мой отец воевал на Колчаковском фронте, и когда мама приехала его навестить, то там у него меня и родила.
Пару слов, пожалуйста, о вашей семье. Чем занимались ваши родители?
Отец у меня был высококвалифицированным токарем на одном из мотовилихинских артиллерийских заводов, и с радостью принял революцию. Глядя на то, какая жизнь была кругом, он еще в молодости активно включился в политическую борьбу, после революции добровольно вступил в Красную Гвардию, а во время Гражданской войны воевал в Красной Армии.
А мама была дочерью простого сапожника, но так как в их семье было больше десяти детей, то жили они очень и очень бедно, поэтому брат ее матери взял маму на воспитание в свою семью. Насколько я знаю, дядя мамы Рябов был купцом и в Перми содержал кофейню, но у него в семье произошла настоящая трагедия. Его единственная дочь окончила в Петербурге высшие женские курсы и вернулась в Пермь уже будучи активным членом партии эсеров. И когда местная организация этой партии приняла решение о физическом устранении ее отца, потому что дядя был известен в городе как ярый сторонник монархии и черносотенец, она покончила жизнь самоубийством... И после этого они взяли на воспитание мою маму, и растили ее как собственную дочь. Но я знаю, что дядю мамы потом все равно убили, а его труп бросили в прорубь реки Кама...
Расскажите, пожалуйста, немного о довоенной жизни. Где жили, где учились?
В Кунгуре наша семья прожила где-то до 1932 года, а потом отца перевели на работу в Свердловск и мы переехали вслед за ним. Вначале отец работал на строительстве обувной фабрики, а когда построили, его назначили ее главным механиком.
Нашей семье выделили небольшую двухкомнатную квартиру в старом двухэтажном купеческом доме на Набережной. Но квартира была не отдельная, а коммунальная. У нас, например, кухня была на три квартиры.
Я окончил 10 классов в Свердловской "Образцовой школе №2 имени Тургенева". Образцовой она называлась, потому что там были повышенные требования к качеству образования. И хотя учеба мне в целом давалась легко, но отличником я не был, потому что особого усердия не проявлял.
Предпочтение я отдавал гуманитарным предметам, они были мне ближе, чем точные науки. Например, по истории и литературе у меня всегда были отличные оценки. Правда, до 4-го класса я любил и математику, но потом получилось так. Как раз когда мы переехали из Кунгура, у нас в школе целый год не было математики, потому что наша учительница тяжело болела. А когда прислали новую, то ей пришлось значительно форсировать процесс обучения, чтобы наверстать пропущенное. И в такой обстановке сильного прессинга у меня появилось к математике некоторое охлаждение, поэтому в основном у меня по ней было "посредственно", хотя школу я окончил все равно на "хорошо".
У меня в аттестате была всего одна тройка - по немецкому языку. Причем там получилось довольно интересно. За год у меня выходила тройка, но экзамен я сдал на "отлично". Всего за два дня буквально вызубрил все, но, правда, потом также быстро все и забыл. В общем, хорошо подготовился и сдал его на "отлично". Но учительница же прекрасно знала меня и сказала примерно так: "Вот видите, он же может, как следует учиться, но ленится", и поставила мне за год тройку.
Судя по фотографиям, вы активно занимались спортом.
Да, в физическом плане я заметно выделялся среди сверстников, потому что лет с двенадцати много занимался спортом. В секции "Юный динамовец", а потом и в спортклубе "Динамо" я занимался гимнастикой и достиг 2-го взрослого разряда, выигрывал городские соревнования среди школьников 9-10-х классов. Кроме того, занимался и акробатикой, и в футбол играл, защитником был, а вот играть в хоккей мне не нравилось. А еще как-то в лыжном кроссе среди старших школьников Свердловска завоевал 2-е место, хотя тогда даже вышел спор, что именно я прибежал первым, но победу все равно отдали более "заслуженному" школьнику, который занимался в обществе "Динамо". Причем, помню, что когда своим друзьям я сказал об этом несколько пренебрежительно: "Да, второе место занял". То они так удивились: "Так ты что вторым местом не доволен?"
А подтягивались вы, например, сколько раз?
Подтянуться для меня было вообще не проблема. Думаю, раз пятьдесят мог. Помню, как-то на уроке физкультуры нам нужно было на оценку подтянуться по канату. Конечно, для меня это не вызвало никаких проблем, но для того чтобы усложнить задание и прихвастнуть перед ребятами я поднялся и спустился держа преднос (уголок).
Свердловск - большой рабочий город. Были драки, поножовщина?
Это все было, но не в нашем кругу. Среди школьников такого не было. Мне, конечно, приходилось частенько драться, потому что я был старшим из братьев, у меня ведь еще были два младших брата Николай и Владимир, и я должен был их защищать. Но в нашей округе все знали, что братьев Окишевых обижать нельзя.
Как ваша семья жила в экономическом плане?
Так как наш отец входил в партийный актив, поэтому был прикреплен к специальному магазину. Но я не могу сказать, что он там получал какие-то особые деликатесы, нет. Например, я помню, что мама приносила оттуда сметану, что-то еще, в общем, самые обычные продукты. А вот с хлебом были трудности. Ведь все то время пока я учился в школе, еще была карточная система, и рабочим полагалось, кажется, по 1 100 граммов хлеба в день, а на иждивенца всего по шестьсот. А что такое молодому парню 600 граммов? К тому же я еще и спортом занимался, а в каникулы целый день проводил на воздухе. Конечно, нельзя сказать, что мы голодали, но есть хотелось всегда. А мясо у нас вообще бывало только по праздникам, и ели мы его очень редко.
Но вот уже когда в 1940 году я приезжал в отпуск домой, то от людей слышал, что жить стали заметно лучше.
У вас были какие-то мечты, планы на будущее?
Я был комсомольцем, а комсомол в те годы шефствовал над авиацией и военно-морским флотом. И однажды меня вызвали в райком Комсомола и говорят: "Вот у нас находится представитель Ленинградского Высшего Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. Он приехал отобрать из ребят подходящие кандидатуры для своего училища, и мы решили пригласить вас, чтобы он с вами побеседовал". Но одного собеседования было недостаточно. На самом деле все было очень строго, вначале мы прошли сразу несколько комиссий: медицинскую, мандатную, а, кроме того, хорошую рекомендацию должна была дать комсомольская организация. И вот так я вошел в группу из 60-70 человек, которую отправили в это училище. Причем, это было не после того как я окончил школу, а после 9-го класса.
В общем, поехала наша группа в училище. Помню, что было много ребят с "Уралмаша", тогда ведь в элитные училища старались набирать рабочую молодежь. Но у меня получилось так. В это училище меня приняли, и где-то целый месяц я там прозанимался, проходил "курс молодого краснофлотца". Но потом оказалось, что состав курсантов должны были утвердить в какой-то инстанции в Москве, но оттуда пришло распоряжение на год отправить меня домой. Причем, во время, учебы в 10-м классе я бы продолжал числиться курсантом, но через год должен был бы вернуться обратно. Просто в первый год обучения курсанты проходили практику на кораблях в качестве кочегаров, но оказывается, что до нее допускали только тех, кому уже исполнилось восемнадцать лет, а мне ведь еще было только семнадцать.
Прошел год и когда мы сдавали экзамены на аттестат зрелости, меня вдруг вызвали в обком Комсомола и говорят мне: "Мы вас направляем в авиационное училище". А я ведь уже все, мечтал стать настоящим моряком и пытался объяснить, что должен вернуться в Ленинградское училище, что я как бы в отпуске, и уже числюсь курсантом. Но когда при мне пошло обсуждение, то было сказано примерно так: "Все комиссии он уже прошел, так что фактически готовая кандидатура". У них видно была какая-то разнарядка на определенное количество курсантов для летных училищ, и мне дали направление в Чкаловское авиационное училище.
Но у вас не было ощущения, что это не совсем то, чем бы вы хотели заниматься? Что вас лишают мечты?
Поначалу, конечно, было. Ведь можно сказать, что я уже побывал в моряках, и мне хотелось обратно, поэтому я пытался как-то возражать: "Как же так, я же уже практически принят". Но меня осадили очень быстро: "Если ты патриот, если ты комсомолец, то выбирай. А нет, так мы сами примем меры. Или будешь учиться куда направим, или положишь комсомольский билет на стол... Но ты не переживай, комсомол тебе доверяет, ты должен это ценить, а нашей стране нужны еще и летчики". Нужно понимать, что тогда было такое время и такая дисциплина, что на такие вещи нравится - не нравится, вообще не смотрели. Было одно слово - "Надо".
В общем, из-за того, что нужно было срочно ехать в училище, я даже не успел сдать половину выпускных экзаменов. Но в школе я объяснил ситуацию и мне пошли навстречу. В бланки сдачи экзаменов мне просто поставили мои годовые оценки и с тем и отпустили. Но произошло следующее.
У меня уже было направление на учебу в Чкаловское училище, были оговорены сроки, когда мы должны были ехать туда, но перед самым отъездом представитель этого училища, капитан Соломатин, вдруг заявил мне: "Ваши документы я направил в Арамильскую школу пилотов, будете учиться там". Причем, сказал мне это настолько сухо и холодно, что я удивился, ведь до этого мы с ним абсолютно нормально общались... Честно говоря, я и сам до сих пор точно не знаю из-за чего все так в самый последний момент переиграли, но связываю это с одной историей.
В школе я дружил с одной девушкой - Таней Львовой. Отец у нее был настоящий старый большевик, и я знаю, что в Гражданскую войну он и в партизанах был. Я даже читал его книгу "Сквозь строй" и помню, что меня поразила его история. За участие в революции 1905 года ему грозил смертный приговор. Но его жена оказалась из влиятельной семьи какого-то казанского купца, и чтобы избежать смертной казни, ему предложили симулировать шизофрению. Знакомый врач подсказал как себя надо вести, и это сработало, но в психлечебнице он пробыл до революции 1917 года...
А когда я с ней дружил, то ее отец был заведующим отделом облисполкома. Но это ведь были как раз 1936-37 годы, и его арестовали как врага народа... При обыске у них нашли мою фотографию, которую я подарил Тане. Их с мамой, правда, не тронули, но Таня мне потом при встрече сказала примерно так: "Ну, ты теперь можешь со мной не дружить, я ведь дочь "врага народа..".
И вот я подозреваю, что именно эта история сыграла свою роль с Чкаловским училищем. Причем, мой отец старался не подавать виду, но я предполагаю, что по поводу этой фотографии его куда-то вызывали и хорошенько пропесочили...
А вашу семью, кстати, репрессии никак не коснулись?
Вообще 1936-37 года я помню хорошо. Например, и как раз в это время в наш дом приехало несколько еврейских семей, из Западной Украины и Белоруссии. Видно, они как-то смогли эмигрировать оттуда. И я помню, что как раз в это время почти всех их мужчин арестовали, причем, сделали это под видом того, как будто бы их забрали в армию, хотя на самом деле все знали, что их просто арестовали... Но их семьи с детьми не тронули, и они так и остались жить в нашем доме.
А с моим отцом произошла такая история. Когда я учился в шестом классе, то хоть и был пионером, но до политики мне было, вы сами понимаете. И как-то раз мы с ребятами из нашего двора на чердаке нашли чей-то портрет. Вытащили его, нарисовали погоны, установили в качестве мишени и давай расстреливать из рогаток.
А тут как раз шел наш сосед по дому, заместитель директора фабрики, где работал отец, увидел это и спросил нас: "А вы знаете, кто это?" Мы переглянулись: "Нет, не знаем". - "Тогда мне придется переговорить с вашим отцом", и ушел.
Уж не знаю, чего он там наговорил, но из-за этой нашей детской проказы, причем, ведь в этом участвовал не только я, но именно моего отца исключили из Партии... Думаю, мне не нужно объяснять, какое это было клеймо в то время...
Но отец не согласился с таким решением, и поехал в Москву восстанавливаться в Партии. И на наше счастье в контрольной комиссии ЦК оказался его сослуживец по армии, который его хорошо знал. В общем, благодаря его помощи и рекомендации отца не просто восстановили в Партии, но даже назначили парторгом строительства Свердловской обувной фабрики "Уралобувь". А когда ее построили, то его назначили ее главным механиком и, кроме того, он еще был заместителем секретаря фабричного парткома.
Но эта история не вызвала у вашего отца какой-то обиды, может быть сомнений?
Нет, отец был настоящий, что называется идейный коммунист, хотя вступил в Партию только после смерти Ленина, когда был объявлен "Ленинский призыв", и никакого разочарования у него эта история не вызвала. Вот если бы он дожил до перестройки, то думаю, что и не пережил бы всего этого. А так как говорится, без штанов ходили, но все равно были пламенными патриотами.
А вы потом не узнали, чей это был портрет? Может, это история все же случилась не из-за него?
Вот до сих пор так и не знаю, чей это был портрет, но, наверное, все же кого-то из партийного руководства. Потому что до этого у отца никогда не было никаких нареканий, наоборот, он всегда был на хорошем счету и пользовался всеобщим авторитетом. Так что эта неприятная история наверняка случилась именно из-за этого портрета. И только лишь много позже, как-то в разговоре он обмолвился, что, скорее всего, это просто кто-то сводил с ним личные счеты.
Расскажите, пожалуйста, о вашей учебе в Арамильском училище. Как там был налажен учебный процесс, какие люди там учились. Вообще, что запомнилось за годы учебы?
Я считаю, что там все было организовано правильно и грамотно: учебный процесс, да и все остальное. Взаимоотношения между курсантами тоже были дружеские, и все старались помогать друг другу, хотя состав курсантов был достаточно разнородный. Я, например, был не просто после десятилетки, а после образцовой школы, но с нами ведь учились и такие ребята, которые пришли буквально с заводов, и у которых было всего по семь классов образования. Причем, был один важный нюанс. Ведь училище готовило инструкторов аэроклубов, поэтому нас старались так основательно обучить, чтобы мы потом не только сами хорошо летали, но и теорию отлично знали, и чтобы могли ее сами грамотно объяснять.
Мне ведь, кстати, довелось учиться в одной летной группе вместе с будущим асом Григорием Речкаловым (Речкалов Г.А. - дважды Герой Советского Союза, четвертый по результативности ас Красной Армии в годы ВОв, лично сбил 56 вражеских самолетов - прим. Н.Ч.). И мы с ним даже в один день сделали свои первые самостоятельные полеты. Причем, если по курсу летной подготовки первый самостоятельный полет полагалось совершить на 52-53 вылете, то мы вылетели уже где-то на 26-27-м. И вот, например, Речкалов как раз очень хорошо успевал в смысле летной подготовки, но он ведь окончил всего семь классов, поэтому у него были большие трудности с теорией. Но это и понятно, ведь до училища он работал простым рабочим на мельнице, поэтому и отставал в освоении теории. Но зато в полетах он просто прекрасно себя проявлял, и наш инструктор Кормишкин его всегда выделял. И видите, как сложилась его судьба, как ему удалось успешно проявить себя.
А другие курсанты учились совершенно по-разному, некоторых вообще списывали за неуспеваемость. Например, в нашей летной группе из первоначального состава в семь человек окончили школу только пятеро, т.е. формального подхода не было и ни кого за уши в учебе не тянули. Но зато те, кто хотели учиться, летать, то старались и находили для этого любую возможность. Я, например, договаривался со стажерами, чтобы полетать с ними во время их учебных полетов. Во-первых, стажеры выполняли некоторые фигуры высшего пилотажа, и, летая с ними, я получал общее представление, что меня ждет, и потом это уже не было для меня новинкой. И, во-вторых, это время включалось в общий налет и записывалось в летную книжку, а это всегда плюс.
Вообще, летали мы, что называется плотно, нас в этом не ограничивали. Когда предстояли полеты, то подъем был в 3 часа утра. Завтрак, подготовка, и с пяти до одиннадцати были полеты. Потом теория, обед, и опять изучение материальной части и теории.
Но, кстати, училище у нас было не военное, а гражданская школа ОСОВИАХИМа. И хоть мы и ходили в военной форме, но например, присяги не принимали.
Какие самолеты вы там изучали?
Только По-2 и Р-6, был такой разведывательный самолет. Наш У-2, кстати, был под номером один, поэтому в шутку мы называли его "копейкой".
Несчастных случаев во время обучения не было?
Из курсантов у нас никто не разбился, а вот два инструктора как-то погибли. В выходной день они полетели в соседнюю область за арбузами. Погрузили их в самолет, но видно хорошо не закрепили, и во время полета, когда арбузы начали кататься по фюзеляжу, самолет попал в плоский штопор и они разбились...
А у вас самого не было опасных эпизодов?
Нет, только вот во время моего первого самостоятельного полета я немножко растерялся. Когда пошел на посадку вдруг резко сменился ветер, и я оказался к этому не готов, потому что знаний в этом отношении мне еще не хватало. А я газ уже сбросил, и смотрю, не дотягиваю до посадочной полосы, поэтому пришлось уйти на второй круг. Но фактически я тогда вовремя принял правильное решение.
Но вам уже нравилось то, чем вы занимались? Не боялись летать?
Летать мне очень нравилось, и училище я окончил с хорошими оценками. Даже наш инструктор мне говорил, что я рожден быть летчиком, причем, со своим почерком. Потому что у меня была своя особенность.
Дело в том, что на посадку я шел не как все. До высоты 5-6 метров как обычно, а потом парашютировал, делал так называемое высокое выравнивание, вот такая у меня была особенность. Причем, со стороны это выглядело вроде даже как неграмотно, но просто у меня был такой собственный стиль при посадке.
И даже когда мы четыре раза прыгали с парашютом, мне не было страшно. Во-первых, мы так привыкли к полетам и высоте, что нам даже казалось, будто с трехсот метров можно вообще без парашюта прыгнуть. А во-вторых, был такой азарт, что не хотелось уступить другим ребятам ни в чем, поэтому даже очертя голову прыгали.
У вас была, например, любимая фигура высшего пилотажа, или наоборот нелюбимая?
Я что любил делать. Летом перед концом полетов, когда уже становилось жарко, я расстегивал ворот комбинезона и вводил самолет в штопор. И меня так хорошо всего продувало, будто в душ сходил.
Помню, что как-то у меня в перчатке на кончике одного из пальцев появилась еле заметная дырочка. Так во время штопора она превратилась в большую дырку, в которую вылез весь палец. Но нужно сказать, что во время перегрузок инструктор всегда очень строго следил за тобой и спрашивал: "Покажи ориентиры". Потому что потеря ориентира в полете означает полную потерю ориентировки, а это серьезнейшая ошибка.
Куда вас направили после окончания училища?
В училище мы проучились год и десять месяцев, а потом весь наш выпуск прогнали через военкомат, присвоили нам звания младших лейтенантов, и раскидали по разным авиационным частям. Кого куда, Речкалова, например, в Пермское военное училище, а меня направили на Дальний Восток. Тогда, как раз разворачивались события на Халхин-голе, и я получил назначение в 6-ю резервную эскадрилью, которая базировалась недалеко от станции Среднебелой, это в Амурской области, почти у самой границы с Маньчжурией. Наша эскадрилья предназначалась для обучения новичков и освоения новой материальной части, поэтому в боях мы не участвовали.
Поездка туда, конечно, запомнилась мне на всю жизнь, ведь фактически двенадцать дней мы ехали через всю страну. И когда, наконец, приехали в часть, то на медицинской комиссии у меня вдруг обнаружили невроз сердца и не допустили к полетам. Но на мое счастье, врачом там оказался мобилизованный с гражданки специалист, который раньше работал с какой-то спортивной командой. Он внимательно посмотрел на меня и начал расспрашивать: "Занимался спортом?" - "Да". - "Систематически?" - "Да". - "А в дороге что делали?" - "Лежали в основном". В общем, он определил, что для моего тренированного организма эта поездка оказалась своеобразным шоком, вроде как растренировка. Поэтому меня определили на десять дней в карантин, я потихоньку стал заниматься на перекладине, брусьях, и все прошло.
Но помимо этого у меня еще и нижняя часть лица покрылась язвами, причем так сильно, что даже пришлось перебинтовать, и недели две я почти не ел. Оказалось, что это у меня такая индивидуальная реакция на акклиматизацию, но меня успокоили, что в Амурской области такое бывает у многих.
Приехали мы туда поздней осенью, и первое время нам даже негде было жить. Еще ничего не было построено, поэтому пришлось какое-то время пожить в палатке... Туго, конечно, пришлось... Помню, в столовой приходилось замерзший хлеб топором на куски рубить... И только в феврале или в марте 1940-го стали сдавать готовые строения.
И сейчас я вот вспомнил, что на Дальнем востоке в комсоставской столовой каждый день на завтрак нам постоянно давали кетовую икру. Первое время мы буквально объедались ею, а потом даже смотреть на нее не могли. Удивительно сейчас такое вспоминать.
Что запомнилось от службы на Дальнем Востоке?
Ну, что там могло запомниться? Мы ведь в боях участия не принимали, потому что переучивались на боевые машины. Служба как служба, просто это ведь очень близко к границе, поэтому мы всегда должны были быть начеку, и даже постоянно приходилось ходить с оружием. А так все как обычно, осваивали боевые самолеты, много летали. Особенно ночные полеты нас выматывали. Ведь после них сон уже совсем не тот, поэтому ходили как вареные. Еще помню однажды, когда я промазал с приземлением и мог угробить самолет, то мой механик прямо сжевал горящую папиросу...
Вы показывали фотографии с Дальнего Востока, где у вас была целая группа гимнастов.
Занятия гимнастикой я не оставлял, и в нашем летном полку в рамках самодеятельности организовал группу партерных гимнастов. Откуда у меня появилась эта идея?
Еще в Свердловске после окончания 9-го класса мы с ребятами как-то пошли в баню. И чтобы их удивить, я сделал стойку на руках на тазике. А буквально рядом со мной на лавке сидел мужчина лет тридцати, и по его виду было видно, что спортсмен. Когда он это дело увидел, и прямо там, в раздевалке стал меня расспрашивать: "А что еще можешь делать? Преднос сможешь?" И когда я ему рассказал, что умею, то он мне предложил: "Я работаю в цирке-шапито перед "Уралмашем". У меня партнер с травмой паховых колец лежит в больнице, и может, мы попробуем с тобой поработать и сделаем номер?"
Как раз были каникулы, заняться особо было нечем, и я согласился. Мы с ним немного позанимались, и, действительно, сделали небольшой номер. Он меня выбрасывал в стойку на руках из разных положений. Он был тяжеловес, а у меня тогда вес был килограммов шестьдесят, и потом он еще привлек в наш номер и третьего парня. В общем, где-то месяц мы позанимались, а потом наш номер принял худсовет, и мы с ним стали работать на манеже.
Родителям я про это вообще ничего не говорил, потому что считал это не работой, а простой ребячьей забавой. Но я же был несовершеннолетний, мне было всего семнадцать лет, и чтобы мне могли платить деньги за выступления, со мной заключили временное соглашение как с учеником. Но я, конечно, выступал не ради денег. Что такое для парня семнадцати лет услышать аплодисменты? Что вы, я испытывал такой восторг, и считал себя настоящим артистом. Если не ошибаюсь, то за каждое выступление я получал где-то 37 рублей, но выступали мы не каждый день, а через день, зато в выходные дни у нас было сразу по несколько выступлений. Сумму я уже точно не помню, но точно помню, что в месяц у меня вышло примерно столько же, сколько и у отца, а ведь у него зарплата была большой для того времени - 1 200 рублей.
Принес маме все деньги, но так и не сказал, что в цирке работаю, а просто заработал. И потом я ночью услышал, как они с папой шептались, переживали, где я мог заработать такие большие деньги. А разоблачили меня совершенно случайно.
Как-то на одно из представлений пришли мой дядя с пятилетним сыном, и только я появился на манеже, а я был одет под индуса, в желтых шелковых штанах и жилетке, как его сын меня сразу узнал и закричал на весь цирк: "Дядя Женя, дядя Женя". Но мой дядя ему не поверил, потому что он сам меня в этом наряде не узнал, хотя его сын, совсем ребенок узнал. И когда после представления они приехали к нам, то только тогда все и выяснилось. Родители меня не ругали, просто сказали: "Ты бы хоть сказал, чем занимаешься".
Но когда я вскоре сказал папе: "Меня приглашают ехать на гастроли с труппой". То он мне тогда так серьезно сказал: "Никуда ты не поедешь. Тебе надо учиться и заканчивать школу. А таких трупп у тебя еще будет полно". И этот циркач отпустил меня без всякой обиды, потому что он тоже прекрасно понимал, что я работал временно и мне нужно продолжать учебу в школе.
А когда в нашем летном полку увидели, что я такой спортивный парень, то меня назначили физруком, и я с личным составом проводил занятия. Помню, что заместитель командира полка давал мне такой наказ: "Погоняй их как следует, чтобы все хорошенько пропотели". Но ведь там разные люди служили. Я помню, как мне было жалко нашего начпрода. Он был невысокий такой, пузатенький, лет тридцати пяти. И когда он только начинал подтягиваться, то сразу начинал жалобно смотреть на меня...
В общем, как-то во время выступления нашей самодеятельности, прямо на сцену поставили турник, и я показал небольшой номер, сделал ряд фигур: вельоборот, ласточку, склепку, что-то еще.
И нескольким ребятам мое выступление понравилось, они заинтересовались и подошли ко мне. Из батальона аэродромного обслуживания я подобрал пару подходящих ребят, и сформировал группу партерных гимнастов. Мы стали заниматься, а потом начали регулярно выступать на разных мероприятиях, и даже ездили на олимпиаду в Хабаровск. В общем, все было достаточно серьезно, хотя однажды произошел конфуз.
Как-то к нам в полк приехала проверять уровень боевой подготовки какая-то комиссия из штаба армии, и наш комиссар решил перед ними прихвастнуть, мол, у нас есть такая группа гимнастов, для которой мы создали условия, и начал меня упрашивать выступить перед этой комиссией. А у нас тогда как раз были ночные полеты, и тут уже, конечно, было не до занятий. А ведь в этом деле очень важно поддерживать форму каждый день, поэтому я ему сразу прямо сказал: "Мы же не тренировались, мы не готовы". - "Ну и что, раз для полка надо, значит надо". Что оставалось делать? А мы еще как на грех успели плотно поужинать. И, конечно, в таких условиях я выступление завалил. За весь номер у меня должно было быть стоек пятнадцать, а я смог сделать всего одну". Так комиссар на меня потом так обиделся: "Ты, наверное, нарочно подвел меня..".
Как вы узнали, что началась война?
Незадолго до начала войны нашу 6-ю резервную эскадрилью влили в состав вновь сформированного полка и срочно отправили на западную границу. Правда, еще за несколько дней до этого пошли разговоры, что предстоит плановая передислокация, и к нам приходил инженер полка и попросил, чтобы мы помогали механикам разбирать и грузить матчасть. Причем как я сейчас вспоминаю, у нас в полку большая часть самолетов была даже не И-16, а их предшественники И-15 Бис.
Но о том, что скоро начнется война, мы не думали, у нас таких мыслей не было совсем. В общем, поехали мы на запад. Причем, все было празднично обставлено, едва ли не на каждой станции наш эшелон торжественно встречали с музыкой, маршами. А тут вдруг, кажется, это была станция Ялуторовск, под Тюменью - тишина. И это было настолько необычно, что мы даже удивились. На станции мы вышли, и смотрим, что у репродуктора собрались люди и идут такие разговоры - "Война..".
Пошли к коменданту станции, и он сказал примерно так: "Ребята, вы едете на войну..".
Насколько неожиданным оказалось для вас это известие?
Абсолютно неожиданным. Причем, я вначале даже не поверил: "Да не может такого быть..". Да, в то время было какое-то общее настроение, которое мы воспринимали как какую-то неизбежность, данность, что война непременно будет. Во всяком случае, у нас военных было именно так, потому что столько было уже разных конфликтов и всяких провокаций. Но вот почему-то меньше всего мы ожидали, что на нас нападет именно Германия... Потому что до этого политработники и командиры постоянно проводили беседы, что у нас с немцами мирный договор, к тому же и в "Правде" мы постоянно читали, что это всего лишь провокационные слухи, и мы в это верили...
После этого собрали личный состав, и комиссар полка сказал небольшую речь: "... неожиданно, но теперь мы будем выполнять свой воинский долг".
Но никакого упаднического настроения известие о начале войны у нас не вызвало. Во-первых, потому что нам было всего по двадцать лет, и к тому же нас ведь и готовили к тому, чтобы защищать Родину. А во-вторых, мы ведь ехали с Дальнего Востока, где до этого было много всяких конфликтов, поэтому в этом плане мы уже были морально готовыми ко всему. Мы же еще когда там служили, все недоумевали, почему это нас в бой не посылают? В общем боевое было настроение - воевать так, воевать.
Но наш полк не отправили прямо на передовую, а расположили на каком-то стационарном аэродроме в районе Орши. Расположились, начали изучать местность, а линия фронта к нам неумолимо приближалась... И только потом уже начали летать на боевые задания.
Какие задания вам поручали выполнять?
Фактически у меня почти всегда было одно и то же задание - не ввязываясь в бой сопровождать группу бомбардировщиков. Но наша группа сопровождала их только до линии фронта, а дальше с ними уже ходила группа с аэродрома подскока. Так что за линию фронта я сам ни разу не ходил, но мы не сразу возвращались, а должны были барражировать какое-то время, минут 20-30, в районе условных ворот. Мало ли что, вдруг они быстро вернутся? Причем, я точно помню, что группы самолетов всегда были очень небольшие, не больше пяти-шести.
Но вообще я вас должен сразу предупредить, что после третьего ранения и операции у меня был поврежден участок мозга, и я очень многое забыл.
Мы об этом еще очень подробно поговорим.
Понимаете, сразу после операции я совсем ничего не помнил, и только постепенно ко мне начали возвращаться какие-то воспоминания. Я, например, не просто не помнил какие-то события, а даже значения самых обычных слов первое время просто не осознавал. Знал, что есть такое слово, например, шофер, а что оно обозначает не помню... Мало того, после ранения я даже не сразу вспомнил кто я такой... Так что какие-то вещи я до какого-то момента и не помнил, но если вдруг заходил разговор на какую-то тему, то у меня сразу всплывали воспоминания на эту тему. В общем, что-то я помню ярко, а что-то уже и позабыл, и вспоминаю совершенно неожиданно.
Например, после войны я отдыхал на море, и там оказался один преподаватель из школы МВД, бывший летчик. И вот в разговорах с ним я, например, вдруг сразу многое вспомнил: и марки самолетов, и много всего остального. Причем, с чего у нас разговор начался? Он назвал какую-то деталь самолета, которой я не помнил, но подумал, что это что-то мне очень знакомое. И когда он мне начал объяснять для чего она нужна, то я вдруг сразу вспомнил все.
К тому же после того как меня сбили, я довольно болезненно вспоминал свою авиационную карьеру, и честно говоря, не думал, о ней много говорить, потому что она получилась очень короткой и довольно неудачной. Я ведь даже не могу сейчас вспомнить номер нашего полка, потому что в тех условиях все постоянно менялось и тасовалось. Например, эшелон, который шел за нами с нашей матчастью немцы разбомбили, поэтому нас сразу переподчинили другой части. Но, честно говоря, нас это и не особо интересовало, ведь задание - полет, задание - полет. Единственное, что помню, что нашим полком вроде бы командовал майор Сердюков.
А когда вас сбили? При каких обстоятельствах?
Насколько я помню, это случилось 27 июля 1941 года, и если не ошибаюсь, то это был мой 8-й боевой вылет. А получилось так.
До этого мне уже однажды пришлось участвовать в воздушном бою, но он был групповой, и прошел для меня настолько сумбурно, что толком я ничего и не успел понять. Так и запомнил свой первый бой как какую-то круговерть. Мы сбили, кажется, пару немцев, но и они примерно половину наших, хотя у нас с ними были примерно равные силы... Но ведь нужно учитывать, что у немцев было явное преимущество и в технике и в тактике.
Вообще я вам должен сказать, что меня очень тяготил такой момент. Когда мы ехали на фронт то были относительно спокойны, потому что хорошо освоили то, чему нас обучали. Но вот видите, как получилось, приехали, а там совсем другие реалии... К тому же у нас в полку, например, летчиков с боевым опытом вообще не было, и это тоже сказалось, что мы оказались не готовы. Хотя уже на фронте к нам в полк, кстати, приезжал какой-то полковник и преподавал нам новую тактику, но получается, что это мы уже как бы наверстывали по ходу дела.
Именно поэтому я про 1941 год так сдержанно и рассказываю. Просто это надо самому попробовать окунуться в этот год, в эту тяжелую обстановку, тревожное, тягостное моральное состояние... Например, наша эскадрилья приехала с Дальнего Востока и прямо в самый омут...
Вернемся к вашему первому бою. Вам тогда хоть пришлось пострелять?
Конечно. И я даже помню, что мне удалось пристроиться в хвост немцу, и по моим ощущениям я по нему довольно удачно отстрелялся, но сбил или нет, не знаю, потому что я сразу отвалил в сторону. Про первый бой я отлично помню, что когда пошел в атаку на этот "мессершмидт", то у меня в голове была только одна мысль: "Папа, ты не со мной!"
Просто у меня во время нашей последней встречи, состоялся серьезный разговор, и отец мне примерно так тогда сказал: "Ты имей в виду, что, чтобы не случилось, но мы тебя всегда ждем и примем любого".
Вот сейчас, кстати, я вспомнил эпизод из интервью Дегена И.Л., которое вы мне дали прочитать, и там есть момент, в котором на его глазах два "Мессершмитта" сбили сразу шесть наших И-16. Не знаю... Мало того, что мне как бывшему летчику это кажется довольно сомнительным, но просто я вообще не помню, чтобы летом 41-го наши самолеты летали такими большими группами, не говоря уже о таком численном преимуществе над немцами. Во всяком случае, у нас все было совершенно по-другому.
Да, у нас тоже были большие потери. За этот небольшой период от нашего полка осталось всего полтора звена... Но ведь нас и не пополняли ни разу да и летали мы много, обычно по несколько раз в день.
Насколько тяжело вы переживали такие большие потери?
Конечно, смерть каждого нашего пилота я тяжело переживал, все же были знакомые... Мы ведь успели хорошо познакомиться, к тому же, насколько я успел заметить, летчики делились на две разные категории: либо молчун, либо говорливый. Прямо не смолкали: ты-ты-ты, у нас это называлось "банковать". И таких веселых и говорливых ребят у нас было много. Поэтому отношения в полку были очень хорошие, и каждый раз потеря как удар, почти стрессовое состояние...
А вы себя к какой категории относите?
Я же уралец, и у нас не принято много говорить, поэтому скорее отношу себя к категории молчунов.
Вернемся к тому бою, в котором вас сбили.
Как я уже говорил, это произошло 27 июля. К тому времени я был рядовым летчиком, но из-за больших потерь незадолго до этого меня назначили ведущим пары. Надо еще сказать, что все время мы летали с одного и того же аэродрома. Причем, к нашему удивлению за все это время немцы всего лишь несколько раз бомбили нас, да и то без особых последствий, потому что аэродром был капитальный, поэтому там были хорошие укрытия, условия для маскировки и почти никто не пострадал. Лишь один раз, когда нас пробомбили, то пришлось отменить полеты, потому что нужно было зарывать воронки на взлетной полосе. И вот как раз перед последним моим вылетом нас предупредили, что садиться, возможно, придется уже на другом аэродроме.
В общем, на задание мы вылетели вдвоем с моим ведомым, и стали барражировать в определенном квадрате. И вдруг я заметил, что прямо под нами, над нашей пехотой летает немецкий корректировщик, который мы называли "горбыль". Я подумал, что у нас есть преимущество в высоте, потому что мы летели где-то на 2000 метрах, а немец всего на 200-300-ах. К тому же мы были над нашей территорией, поэтому я решил, что мы просто обязаны наказать его за такую неприкрытую наглость.
Я подал условный сигнал Мише, фамилии его уже не помню: "Прикрывай меня", и начал пикировать на немца. Но видно немецкие летчики успели меня заметить, потому что, корректировщик планируя со снижением, начал от нас уходить. Но мы в этом пикировании так сильно разогнались, что у меня от перегрузок самолет очень сильно затрясло. Поэтому чтобы сбросить скорость я перевел машину в горизонт, и вдруг мимо меня пронесся горящий самолет моего ведомого...
Я оглянулся, и увидел, что за мной гонятся штук шесть "мессеров" и по мне лупят... У меня задымилась плоскость, но высота была метров пятьсот, и я решил уйти от них на пикировании и при этом на скольжении сорвать пламя. Я так и сделал, и вроде от них оторвался, потому что немцев за мной уже не было, они видно подумали, что я тоже сбит и бросили меня. Но только я выровнял машину, как почти сразу появилось пламя, причем еще более сильное, чем было поначалу. Но я совершенно точно знал, что это наша территория, поэтому и решил срочно идти на посадку.
Но мне пришлось садиться на слишком высокой скорости, к тому же на вспаханное поле, и я был уверен, что самолет точно скапотирует, и сгорит, поэтому решил покинуть его до этого момента. И, честно говоря, я, когда пошел на посадку, то уже и не думал, что останусь живым, и только в тот момент, когда отстегивал ремни, то помню, что у меня промелькнула такая мысль: "А вдруг все-таки выживу?"
Но только лишь я отстегнул ремни, меня словно из рогатки, буквально выстрелило из кабины, и сильно ударившись затылком, причем, даже не знаю обо что, тут же потерял сознание... И очнулся уже только в доме у колхозников, которые потом на повозке отвезли меня в полевой госпиталь. А оттуда санитарным поездом меня отправили в уфимский госпиталь.
Из-за этого сильного удара затылком я первое время только на фоне окна мог что-то видеть, какие-то контуры, и хотя зрение понемногу восстанавливалось, но из госпиталя меня выписали фактически с клеймом: "К летной работе не допускается".
Сколько времени вы лечились в Уфимском госпитале?
Месяца два, но, честно говоря, мне там было просто стыдно находиться, потому что кроме проблем со зрением и головных болей все остальное у меня было нормально, и внешне я выглядел абсолютно здоровым человеком. В основном мною занимались окулист и невропатолог. Помню, что мне давали какие-то лекарства, делали массаж затылочной части головы, и я сам делал специальную гимнастику для глаз. Но при этом у меня было такое впечатление, что меня не выписывают только потому, что по правилам у них было так положено, чтобы человек лечился какое-то определенное время. Но нужно учитывать, что это было самое начало войны, и тогда многое еще было как в мирное время.
В общем, где-то месяца через два меня признали не годным к летной работе, и из госпиталя я поехал прямо домой в Свердловск. А после небольшого отпуска по ранению меня прикрепили в качестве специалиста по авиации к трибуналу Уральского Военного округа и военной контрразведке округа. И вот по их линии меня направили в Тюмень на формирование 175-й стрелковой дивизии, где меня назначили секретарем военного трибунала дивизии.
Сколько вы прослужили в этой дивизии?
Чуть более полугода. Где-то сразу после ноябрьских праздников 41-го нашу дивизию отправили на Юго-западный Фронт, а в окружение под Харьковом мы попали в мае 42-го.
А как вас назначили на такую должность, если у вас не было юридического образования? Вообще чем вы занимались в трибунале, что входило в ваши обязанности? Может, что-то особенно запомнилось, расскажите, пожалуйста.
Вводили в курс дела меня постепенно, и вначале, действительно использовали только как специалиста по авиации. Мне дали почитать где-то десяток различных дел, и я давал по ним свое заключение. Помню, мне пришлось присутствовать при допросе одного деятеля, который выдавал себя за летчика, но его сразу же уличили во лжи. И только потом мне уже стали давать читать дела вообще никак не связанные с авиацией, и спрашивали мое мнение. Причем, при этом я даже не знал вначале, на какой должности я там нахожусь. А потом у меня состоялся примерно такой разговор с председателем нашего трибунала: "Вы не будете возражать, если мы вас введем в постоянный штат? Ведь вы все равно по состоянию здоровья пока не можете вернуться в авиацию. А у нас вы будете назначены секретарем трибунала со всеми правами среднего командира, и получите звание младшего военного юриста".
И тут у меня встал вопрос, что делать, потому что незадолго до этого начальник особого отдела дивизии тоже предложил мне пойти к ним на оперативную работу, правда, вначале я должен был пройти двухмесячные курсы. Но я попросил у него время, чтобы подумать. И тогда председатель нашего трибунала дал мне очень дельный совет: "Ты должен учесть, что у нас ты будешь заниматься чисто технической работой: вести протоколы судебных заседаний, различную документацию, к тому же ты уже немного в курсе этой работы, втянулся, познакомился с людьми. А там ты будешь на секретной работе, и если ты захочешь оттуда уйти, то так просто тебя уже не отпустят. Зато от нас ты сможешь уйти всегда".
А это был для меня наиважнейший момент, потому что, уже, будучи в Тюмени я почувствовал, что полностью восстановился физически и опять готов к летной работе. Поэтому я надеялся, что в трибунале я нахожусь временно, лишь до моего полного излечения, и потом опять смогу вернуться в авиацию. Я не раз говорил об этом с председателем трибунала, и он, зная это мое желание, дал мне такой совет. И вот под влиянием этого разговора я и принял решение остаться в трибунале. И уже на формирование дивизии я поехал в качестве штатного секретаря военного трибунала дивизии.
Расскажите, пожалуйста, о структуре и составе трибунала дивизии. Какие отношения были в коллективе? Насколько много было дел, и какие из них наиболее характерные?
В дивизионном трибунале было два члена военного трибунала, председатель, секретарь, комендант и шофер. Коллектив у нас был абсолютно нормальный, я бы даже сказал хороший, поэтому эти полгода я вспоминаю очень хорошо. Причем, отношения были чисто товарищеские, да и общались мы в основном только в нашем кругу: трибунал и прокуратура.
А председатель трибунала Коковин из себя большого начальника никогда не строил, хотя один раз получается, что я его подвел, и он получил из-за меня выговор от командира дивизии. Уже на фронте, перед наступлением на Харьков у меня случился нарыв на ноге. Причем, такой сильный, и я так мучился, что даже ходить сам не мог, поэтому первое время в столовую меня возили на машине. Но когда командир дивизии это увидел, то сделал председателю выговор: "Передвижение вашей машины демаскирует наши позиции. Нечего гонять машину, носите еду ему домой".
А так по вечерам мы часто собирались нашим небольшим коллективом, и во время этих бесед меня, например, посвящали во всякие тонкости и хитрости. Но я, конечно, и сам изучал процессуальный и материальный кодексы, и стал участвовать в судебных заседаниях. Правда, заседания проводились не каждый день, но ведь там и условия были специфические. То дислокацию меняем, то выполняем какие-то другие задачи.
Ну а так все время были в действии. Например, дело рассматривается в полку. Во-первых, этот полк еще надо найти и добраться до него. А это далеко непросто, ведь по дороге тебя могут тридцать раз обстрелять. Так что это была не просто канцелярская работа.
А дела... Например, я помню, что мы рассматривали дела немецких агентов, которых в прифронтовой полосе было много из числа недовольных советской властью. А из чисто воинских - дела "самострелов", хотя я бы не сказал, что их было много. Или же когда, например, какой-то командир проявил нераспорядительность, и из-за этого что-то случилось.
Например, я помню, как судили одного заместителя командира батальона за то, что он не обеспечил питание, и солдаты длительное время нормально не ели. Поэтому его привлекли за халатность. Я сейчас уже не помню, как его наказали, но совершенно точно, что не расстреляли. Но нужно учесть, что тогда ведь даже штрафных подразделений еще не было, поэтому часто приговор выносили с такой формулировкой: "Осудить к двум годам лишения свободы условно, с направлением на фронт". Даже этим немецким лазутчикам, по-моему, давали лет по десять, а вот смертных приговоров в нашем трибунале я что-то и не помню. И я бы не сказал, что уровень наказания был какой-то чрезмерно жестокий, хотя некоторые случаи, конечно, вызывали у меня внутреннее сомнение и даже протест.
Например, дело курсанта, если не ошибаюсь, Ефмана, которое мы рассматривали еще в Свердловске. Там было военно-политическое училище, которое готовило политруков. И перед самой отправкой на фронт этот курсант написал письмо девушке, с которой он дружил, с примерно такими словами: "Все, сдаем последние экзамены, и поедем на фронт исправлять ошибки наших незадачливых дипломатов". Но это письмо прочитал и отец этой девушки, который заявил куда следует, и вот за такие слова ему дали пять лет, хотя было совершенно понятно, что это обычный мальчишка, который просто решил выразиться красиво...
Или, например, дело одного солдата, который высказался насчет авиации. Сидя в окопе и наблюдая за господством немцев в воздухе, он заявил: "Вот так вот, готовились, готовились, а смотрите какое превосходство у немцев". И за такие разговоры ему приписали пораженческие настроения и влепили 58-ю статью... Конечно, внутренний протест некоторые дела вызывали.
А вот вы, кстати, не вели между собой никаких разговоров на разные "скользкие" темы? Не обсуждали, например, неудачи начального периода войны?
Конечно, личному составу нужно было как-то объяснить крупные неудачи начала войны, но их списывали на внезапность нападения немцев, к тому же обвинили в нераспорядительности некоторых командующих округов.
Но некоторые вещи мне были непонятны еще, когда я служил на Дальнем Востоке. У нас, например, был репрессирован командующий армией Блюхер, и вдруг нам начали объяснять, что оказывается это в его окружении были шпионы и вредители... Так что в голове какие-то вещи просто так не укладывались и определенные сомнения появлялись. Но нужно понимать, что откровенные разговоры - это ... очень деликатная вещь, поэтому в то время разговоры на некоторые темы были просто не приняты, и от них старались либо уходить, либо вообще их избегали.
И даже после войны, когда я уже работал прокурором Нижне-Салдинского района, тоже были такие дела, по которым я даже отказывался принимать определенные решения. Например, по одному из дел проходил человек, который еще во время революции, состоял в астраханской анархистской организации, и даже редактировал у них какое-то издание. Но потом он из этой организации ушел, причем, у него даже хранилась вырезка из старой газеты с его статьей, в которой он писал, что это было его большой ошибкой, и он окончательно порывает с этой организацией.
А когда надо было решать вопрос о его аресте, то он уже работал инженером на металлургическом заводе, был на хорошем счету, но ко мне пришел работник МГБ с постановлением на его арест, мол, в прошлом член анархистской организации и т.д. и т.п. Но я ему сразу сказал: "Вызовите его вначале ко мне на беседу, потому что, не видя человека, я не могу санкционировать его арест". - "Мы не можем, он на охоте в тайге". - "Тогда я не подпишу". Во-первых, я его даже не видел, а во-вторых, уже столько времени прошло, и, судя по характеристике администрации завода, он стал совсем другим человеком.
Но его все-таки взяли прямо на охоте и привезли ко мне. Я с ним побеседовал, он мне всю эту историю рассказал, и я опять им отказал. Ну, где тут социальный вред и опасность? Тогда МГБисты написали жалобу прокурору области Яцковскому, и тот приехал к нам в район и лично санкционировал его арест. А при нашей встрече он мне сказал примерно так: "Может, ваше решение и правильное, но есть секретная директива, о привлечении всяких сомнительных элементов, так что в этом случае вы поступили неправильно. Но вас оправдывает то, что вы об этой директиве не слышали, а то бы у вас были неприятности". Но я лично эту директиву никогда не видел.
Но можно сказать, что именно тогда, во время службы в трибунале у вас родился интерес к вашей будущей профессии?
Скорее не интерес, потому что меня судебная работа как таковая никогда не интересовала, но зато именно тогда я впервые посмотрел на работу следователей прокуратуры дивизии. И почему я потом после ранения выбрал именно эту работу? Потому что я уже четко представлял, насколько это сложная, нервная и конфликтная работа. Ведь буквально каждый допрос это как очередной экзамен. И я считал, что если я справлюсь с такой тяжелой работой, то сохраню себя как человека, как личность. А нет, значит, моя судьба быть инвалидом...
И я думаю, что все-таки сделал тогда правильный выбор. Потому что я даже сам чувствовал, что процесс восстановления пошел заметно лучше именно от такой напряженной работы. Я помню, когда только начинал работать помошником прокурора района, то из-за напряженной обстановки вести следствие поручали всем, даже таким малоопытным работникам как я. И мое первое дело мне дали о вооруженном ограблении.
Так я помню, что во время допроса я по несколько раз выскакивал в коридор, чтобы успокоиться, настолько нервничал и был напряжен. И тогда у меня произошел такой случай, который сейчас смотрится довольно забавно. По этому делу проходил один матерый рецидивист, который вдруг начал мне абсолютно все рассказывать: и где оружие достал, и как жертв выбирал. Но когда я часов в десять вечера закончил допрос, старательно все записал, то он отказался подписывать протокол: "Расписаться? Нет, что вы, гражданин начальник! Просто вы как человек вызвали у меня симпатию, поэтому я вам все и рассказал. Но подписывать я ничего не буду", и ехидно так улыбается... Вы себе представляете мое состояние? Это сейчас смешно, а в тот момент я готов был разорвать его в клочья...
И была еще одна вещь, которая потом сыграла важнейшую роль в моем становлении. Ведь прокурорская работа в чем-то сродни работе офицера. В том плане, что постоянно приходится принимать самостоятельные решения. Надо настраивать людей, надо уметь мыслить наперед, взвешивать все за и против, фактически как у шахматистов. Все эти вещи очень близки к следственной работе.
Но вот в дивизионном трибунале работать в качестве секретаря мне не нравилось. Это же была чисто техническая работа, я был фактически писарем. А к технической работе у меня тяги никогда не было и нет.
Но тогда может, у вас было желание попросить о переводе на другую должность?
Нет, при всей моей нелюбви к этой работе о переводе я потом даже не заикался, потому что мне казалось, что это уже какой-то вид приспособленчества. Да и какие могут быть на фронте мои личные желания, когда весь народ воюет?
Расскажите, пожалуйста, о том, как под Харьковом вы попали в окружение, и как оттуда вышли.
Наша дивизия входила в состав, если не ошибаюсь, 28-й Армии, и в мае 1942 года мы участвовали в Харьковской операции. Пошли в наступление из под Волчанска и, насколько я знаю, именно наша дивизия ближе всех прорвалась к Харькову, потому что я совершенно точно помню, что вдалеке мы уже видели трубы знаменитого тракторного завода. И вот тут началось...
По сведениям полученным от партизан стало известно, что под нашим нажимом немцы создали мощную авиационную группировку, чтобы под ее прикрытием они смогли беспрепятственно отступить из Харькова. Но все оказалось не так, и немецкая авиация просто житья нам не давала...
Только представьте себе: с 3 часов утра, и буквально до самых сумерек, с перерывом на два часа на обед, нас беспрерывно бомбили... Беспрерывно! И что интересно. По моим наблюдениям, в этой мясорубке у нас в дивизии остались живы только те, кто оказались или на открытой местности или на высотах. А вот все, что было укрыто и замаскировано они подчистую разбомбили... Медсанбат в лесу, артполк, всех разбомбили, а мы как раз оказались на открытом месте и остались живы...
Конечно, что, оказавшись в таком положении, нам пришлось начать отступать. Вообще те бои под Харьковом для меня оказались, пожалуй, самыми тяжелыми за всю войну. Эти постоянные бомбежки, страшные потери, растерянность наших командиров, отсутствие боеприпасов... Помню, у меня тогда состоялся разговор с одним командиром батареи: "Вон же немецкие танки. Бейте по ним!" - "Да было бы, чем..". И он же мне рассказал, что им выдали всего по два боекомплекта, а чем воевать дальше? В общем, бесконечные бои, жара, голод, эти дикие бомбежки... А в бомбежку, что чувствуешь? Свое полное бессилие... Свист - разрыв, свист - разрыв... Да еще немцы включали на бомбардировщиках специальные сирены, которые сильно действовали на нервы...
Но вот вы знаете, что я хочу вам сказать. Вот даже в этой тяжелейшей обстановке я не помню ощущения всеобщей подавленности и паники, которые описаны в некоторых интервью, которые вы мне дали прочитать. Не было такого. Я, например, хорошо помню, как мимо нас отступала какая-то воинская часть. В ней было человек пятьсот, и все они шли стройными рядами.
К тому же по долгу службы мне ведь приходилось общаться с беглецами, которых задерживали, и все они рассказывали одно и тоже: решение прорываться по одному принимали командиры, так как в частях уже не было ни боеприпасов, ни продуктов...
А под Ольховаткой, например, наш комдив поручил нам задерживать всех беглецов, и сколачивать из них боеспособные группы. Так что полной безнадеги и деморализации не было, ничего подобного. Да и как бы мы в таком случае смогли победить хваленую немецкую армию? Так что от некоторых интервью у меня осталось общее впечатление, что негатив в них значительно преувеличен.
Конечно, были и паникеры и трусы, но всеобщей деморализации не было. И даже в моей, фактически полностью разгромленной дивизии, определенный порядок все-таки сохранялся. Я, например, помню, такой случай.
У нас уже не было ни транспорта, ни горючего, и когда мы грузили на последнюю машину сейфы с архивами, чтобы просто отвезти их и закопать, то один знакомый командир мне так довольно резко сказал: "Далеко вы все равно не уедете. Мы вас все равно догоним". Он видно подумал, что мы решили сами драпануть на машине. А мы просто везли закапывать архивные дела. Потом, кстати, я узнал, что когда наши войска эту местность освободили, то эти сейфы благополучно откопали.
А в этот тяжелый период вы не думали, что мы проиграем войну?
Честно говоря, определенные сомнения, конечно, появились. И я, пожалуй, соглашусь, что именно в 1942 в каком-то смысле было еще тяжелее, чем даже в 41-м. Ведь под Харьковом в наступление люди шли окрыленные нашими первыми крупными успехами, а тут вдруг такая катастрофа... Поэтому после этого и появились упаднические настроения.
А в этот тяжелый период трибунал продолжал работать или же вы занимались чем-то другим? Вы лично, например, не принимали участия в боях?
Конечно, тут уже было не до судебных заседаний... В период отступления мне приходилось брать оружие в руки и участвовать в боях, правда, не часто, хотя именно тогда мне пришлось убить моего первого немца...
Сейчас некоторые борзописцы выдвигают такую теорию, что это Сталин был инициатором войны. Но я то помню, что когда мы из Тюмени приехали на фронт, то вдруг получили приказ: "Сдать все личное оружие", и у меня забрали мой пистолет, потому что в частях элементарно не хватало оружия. Поэтому в наступлении под Харьковым у меня даже пистолета не было, и я где-то подобрал трофейную винтовку.
А у меня был знакомый офицер связи, которому поручили передать какое-то распоряжение в одно из передовых подразделений. И он решил, что раз там идет бой, и мало ли что, вдруг его ранят, и некому будет оказать помощь, так что вдвоем как-то вернее. Поэтому он позвал меня с собой, причем, так по приятельски, будто нам не на передовую надо было идти, а допустим в магазин: "Ты пока не у дел, давай сходим со мной за компанию на задание. К тому же у тебя винтовка, а там можно и трофейный пистолет раздобыть". А мы туда только прибыли, я с обстановкой и не особенно был еще знаком, к тому же председатель трибунала куда-то уехал, поэтому я согласился и пошел с ним.
В общем, мы с ним пошли, а там идет самый настоящий бой... И хорошо еще, что я догадался прихватить с собой эту трофейную винтовку, потому что в одном месте мы остановились, и он мне говорит: "Вот за той хатой прячется фриц, давай мы его возьмем и обезоружим". И мы решили взять его в плен, но там как получилось. Мы и немец буквально одновременно выглянули из-за угла дома, но я успел выстрелить первым, причем, даже не прицеливаясь, и убил его наповал...
Подошли к нему, это оказался лейтенант, в чистом обмундировании, красивые хромовые сапоги... Я сразу забрал у него пистолет, а сам смотрю на него и думаю: "А ведь он примерно того же возраста, что и я, и у него тоже есть мать..".
Вернемся к тому, как вы попали в окружение.
Когда мы отступили от Харькова километров, наверное, на пятьдесят, то в одном месте напоролись на немецких автоматчиков, и мне пуля навылет прошла через левое предплечье, у меня до сих пор шрам остался. Причем, этому ранению я даже где-то обрадовался, потому что был уже настолько измотан, что мечтал хоть немного передохнуть, пусть даже и в медсанбате. Но только я попал в медсанбат, как вдруг оказалось, что немцы выбросили у нас в тылу десант, и всех ходячих, кто мог держать оружие, попросили помочь в его ликвидации. Я, конечно, пошел со всеми, и там развернулся настоящий бой.
А когда мы из него вышли, то уже ни о каком медсанбате не могло быть и речи. Мы поняли, что отрезаны, и находимся в окружении... Начали плутать по лесу, и наткнулись на командование нашей дивизии, во главе с комдивом генерал-майором Кулешовым, человек пятьдесят их было.
Какое-то время мы двигались на восток все вместе. Еще оставались какие-то запасы провизии, но вот боеприпасов у нас почти совсем не было. У меня, например, оставалась одна граната и всего два патрона в пистолете...
А когда до Дона оставалось километров сто, комдив вдруг собрал на совещание всех командиров, которые были в наличии. И на этом совещании он прямо ткнул в меня пальцем и говорит: "Вот он у нас самый молодой, а значит, есть шансы, что он останется живой и выберется к нашим, поэтому именно ему мы дадим важное поручение". Там действительно, оставалось фактически только окружение командира дивизии, и я оказался среди этих командиров самым младшим по возрасту. Но после войны так сложилось, что когда я работал в должности заместителя начальника следственного управления прокуратуры Свердловской области, а мой бывший председатель трибунала Коковин оказался в моем подчинении, то как-то в одной беседе он мне рассказал, что перед этим комдив спросил его обо мне, и он дал мне хорошую характеристику: "Это один из лучших моих работников, крепкий парень. Именно ему я хотел поручить вывезти из окружения важные уголовные дела".
И мне дали такое задание - во что бы то ни стало добраться до наших войск и передать пакет с секретными документами в штаб фронта. Но идти я должен был не один, мне в помощь придали четырех автоматчиков. Кое-как собрали им вооружение, а ведь в нашей группе тогда буквально каждый патрон был на счету. Правда, им просто сказали, что я у них буду старшим, и они должны выполнять все мои распоряжения. Но в дороге я им честно рассказал, что у нас ответственное поручение, и что если меня ранят или убьют, то уже кто-то другой должен будет взять пакет.
И мы пошли. Сколько тогда всего пришлось пережить...
Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Шли в зависимости оттого, какая местность и погода. В одном месте, вроде как Гайворон, точно помню, что начиналось на Гай, мне показалось, что мы уже оторвались от немцев и можем идти прямо по дороге. Я вышел из леса и пошел вперед, разведать местность, как вдруг за мной увязался немецкий истребитель. Спикировал на меня и я оказался прямо между пулеметных трасс... Два раза он пикировал на меня, а потом я спрыгнул в овраг и он меня потерял.
В переходах вы соблюдали какой-то порядок?
Да, мы шли не толпой, а в определенном порядке: один слева, другой справа. Если шли по лесной дороге, то двое шли параллельно, а потом менялись. Если надо было идти по лесу, то могли и днем идти, а так в основном ночью. Мне в дорогу дали и карту, и компас, и подсказали примерный маршрут. А конечным пунктом в нашем путешествии должен был стать Богучар, так как, надеялись на то, что мы туда придем раньше немцев.
Пришли мы в в Богучар уже ночью, и, действительно, подумали, что немцев там нет. А мы же голодные как звери... В дорогу нам собрали продуктов, но совсем немного, поэтому вскоре мы начали питаться зернами пшеницы... Поэтому когда мы туда пришли, то первое о чем подумали, чего бы найти поесть.
Идем по улице, и вдруг услышали, как женщины рассказывали, что невдалеке разграбили склад, но там еще можно набрать сухарей. Мы расспросили, где этот склад находится, и пошли туда. Нашли его, а там действительно уже все разгромлено и растащено, остались только бумажные разорванные мешки, но действительно, на полу еще валялись сухари.
Но у нас с собой даже ни одного вещмешка не было, а только в карманы много ведь не положишь. Но одна женщина нам подсказала, что в соседней аптеке нам обязательно что-нибудь дадут. И точно, в аптеке нам дали скатерть, мы вернулись, набрали сухарей, сделали из этой скатерти подобие вещмешка, и именно в этот момент появились немецкие мотоциклисты... Мы кинулись бежать, но в темноте же это белая скатерть за спиной у одного из наших была видна, и из-за нее его убили... Мы, когда перелезали через забор, то его из пулемета расстреляли, он прямо так и остался на нем висеть...
А второго бойца я потерял, когда мы остановились на каком-то хуторе. Спросили у хозяев, немцев не было, поэтому мы и решили остаться там переночевать. Нас хорошо приняли, покормили. Причем, это было еще сразу после дождя, мы были мокрые, поэтому решили подсушиться. И вдруг хозяйка меня будит: "Немцы". А я со сна ничего не соображаю. Выглянул в окно, но немцы меня тоже заметили и кинулись бежать. Это оказались обозники, которые приехали за водой, но они сами струсили, увидев меня. А пока мы собирались, причем, я долго не мог обуться, потому что все было сырое, появились мотоциклисты. Мы снова кинулись бежать, но тогда погиб еще один...
И вот когда нас осталось трое, то произошел один случай, который по силе своих душевных переживаний я считаю одним из самых сильных за всю войну. Уже где-то на подходе к Дону мы зашли в какой-то казачий хутор, и, разделившись, пошли по дворам попросить поесть. Я зашел в один двор, увидел женщину средних лет с детьми и спросил у нее: "Нет ли у вас куска хлеба?" И она мне ответила: "Конечно, покормлю, сынок, чем Бог послал. Только ты сначала скажи, вижу, что ты вроде как командир, когда вы закончите отступать? Или совсем воевать не умеете? Когда это было, чтобы врага к Дону подпустили? Вот вы уйдете, а мне куда с малыми детьми деваться?", и смотрит на меня глазами полными слез...
Я был просто смертельно голоден, но как после таких слов, я мог ее еще о чем-то просить? От жгучего стыда я смог только пробормотать: "Извини, мать", развернулся и ушел... Пожалуй, самое тяжелое в этом разговоре с ней, было то, что я воспринял ее упрек мне в адрес всей нашей армии, что мы такие бестолковые... Эта встреча настолько меня поразила... К тому же надо было еще и ее видеть, как она спрашивала с надеждой в голосе и слезами на глазах, а я стоял беспомощный, и ничего не мог ей ответить...
А последних двоих ребят я потерял уже при переправе через Дон... Помню, что мы подошли, к реке вечером, когда уже смеркалось. Прямо у реки стоял танк, и мы у двух танкистов спросили: "Что вы тут делаете?" - "Вот переправы нет, поэтому мы сейчас расстреляем все снаряды, подожжем танк, и будем переправляться.
Но один из моих меня сразу предупредил: "Я плохо плаваю, и, наверное, доплыть не смогу". Но я его успокоил: "Мы поможем". Но когда мы поплыли, то в темноте по нам на шум открыли огонь с нашей стороны, а мы же все свои вещи, вплоть до сапог привязали к своим головам, и попробуй тут в таком положении оглядываться и тем более помогать... В общем, на берег я вышел один... Ходил, искал их по берегу, но никого так и не нашел... Вот так я и вышел к своим.
И получается, сколько по времени вы выходили из окружения?
Сложно сказать, но получается, что больше месяца. Потому что я точно помню, что ушли мы в первых числах июня, а в Сталинград я попал только 25 августа.
И все же, честно говоря, мне не очень понятно, почему вы хорошо вооруженные каждый раз убегали от немцев? Ведь их было немного, а у вас были автоматы.
Если бы не этот пакет, то мы бы, конечно, ввязывались в стычки, но так как лично мне наш комдив строго-настрого приказал: "Ни в коем случае не вступать в бой. Ваша главная задача - доставить пакет в штаб Фронта!" Поэтому в нас уже словно сидела такая негласная установка - избегать любых столкновений с немцами. Кстати, сказать, во время этого "путешествия" был еще один любопытный эпизод.
Так как мы очень сильно хотели есть, да и обстановку надо было узнавать, поэтому время от времени нам надо было заходить в села. И вот однажды мы часа два наблюдали за одним селом, перед тем как в него войти. Вроде все было спокойно, зашли в одну хату, и женщина украинка нам сказала, что в их селе немцев нет. Мы у нее расположились, переночевали, а утром вдруг узнаем, что другая часть села, оказывается, уже занята немцами. Но село было большое, и мы поняли, что немцы находятся только в другой его части, поэтому вышли из дома, совершенно не опасаясь. Идем по улице, и вдруг нарвались на двух немцев... Может, это был патруль, а скорее все-таки простые хозяйственники. Но это получилось настолько неожиданно и для них и для нас, что и мы и они просто растерялись и оцепенели... Между нами было метров двадцать всего, и какие-то мгновения мы стояли и смотрели друг на друга... Но они первые опомнились и рванули в одну сторону, а мы в другую.
Вам тогда пришлось у людей просить поесть. Насколько охотно вас кормили?
Кормить кормили, хотя и не без проблем. Но это и понятно, все-таки шла война, и у каждого были свои интересы. Кстати, там же в Богучаре, например, был еще такой эпизод. Мы увидели, что в подвале одного из домов горит свет, и зашли туда попросить поесть. Смотрю, слезает с кровати старик, в казачьих шароварах с лампасами и говорит нам так неласково: "Ну-ка, вояки, чтобы я вас здесь больше не видел". Мы развернулись, и он нам вдогонку сказал: "Что это за позор! Куда вы немцев допустили.."., что-то в этом роде...
С этими ребятами автоматчиками вы столько всего испытали за этот месяц. За это время вы успели с ними подружиться? Не помните, например, как их звали, откуда они были родом?
Самому старшему из них, сержанту, было около тридцати лет, и мы его называли "старик". На всякий случай мы обменялись адресами, и уже после войны я звонил их родным. Я тогда уже работал в прокуратуре, поэтому звонил вначале в милицию, представлялся, и просил узнать адреса их родных и если есть телефон. Для меня все узнавали, и тогда я звонил и рассказывал когда и при каких обстоятельствах погиб их родственник... Помню, что один из них был из Ирбита, второй из Великих Лук, если сейчас не ошибаюсь, Сеня Костромин. Третий был из Старой Руссы, а четвертый тоже сибиряк, из Ишима. Оказалось, что их родным пришли извещения "пропал безвести", но зато я им все рассказал...
Мы остановились на том, что вы вышли к своим.
На берегу меня сразу арестовали солдаты и привели к своему комбату. Он меня выслушал, хотел взять пакет, но я ему твердо сказал, что мне приказали лично сдать пакет в штаб Фронта. Но тогда он мне так сказал: "Выбирай, либо ты сейчас уйдешь от меня, но тогда совершенно точно попадешь в фильтровочный лагерь. Либо остаешься у меня командиром роты, потому что из-за больших потерь у меня ротами командуют сержанты". Выбор у меня, сами понимаете, был небольшой, и я согласился остаться у него командиром роты. Но, правда, я его сразу предупредил, что я бывший летчик, и как командовать пехотой не знаю. "Ничего, научишься".
И вот две недели я там провоевал командиром роты. Правда, все это время мы простояли в обороне и только перестреливались с немцами. Но комбат о пакете сразу наверх доложил, поэтому недели через две ему позвонили, и даже прислали за мной машину, которая отвезла меня в Сталинград.
В штабе фронта, а это было уже 25 августа, я сдал пакет какому-то комбригу, и пошел на Волгу, чтобы наконец как следует помыться и постираться, потому что моя гимнастерка тогда была настолько пропотевшая, что просто колом стояла...
Я постирался, отмылся, на кустах повесил сушиться обмундирование. Сам лежу, загораю, жара ведь стояла. И вдруг патруль - моряки Волжской флотилии во главе с политруком: "Кто такой?" Я им все объяснил. - "А, окруженец! А ну-ка пойдем с нами". - "Дайте хоть немного обсохнуть". - "Одевайся". Но я им объяснил, что в штабе фронта могут подтвердить, кто я такой. И когда они меня туда привели, то на крыльце как раз стоял тот самый комбриг, которому я и сдавал пакет. Он меня, конечно, узнал и сказал им: "А, лазутчика поймали. Отпустите его, это наш".
А что все-таки было в том пакете?
Я и до сих пор не знаю, что в нем было, мне так и не сказали. Может секретные документы, а может и знамя дивизии, потому что по размеру он был как большая книга, обернутый в материю от плащ-палатки, и на ощупь мягкий. Но когда его при мне в штабе фронта начали распечатывать, то я успел заметить, что внутри было, что-то то ли в целлофане, то ли пластмассовой упаковке. Во всяком случае, мне так показалось. Эти командиры сразу многозначительно переглянулись и сказали мне: "Считай, что ты задание выполнил".
А, кстати, как вы несли этот пакет, в чем?
Под гимнастеркой, причем, на груди, потому что когда я попробовал нести его сзади, то было очень неприятно из-за того, что когда спина потела, то пакет сильно натирал.
А почему все-таки командир дивизии решил именно вам поручить доставить пакет?
Уверяю вас, что ничем другим кроме молодости я в той группе не выделялся. И видно, генерал решил, что этого моего достоинства вполне достаточно, ведь до этого мы с ним никогда не общались.
А вы потом никого из тех оставшихся бойцов вашей дивизии не встречали? Не знаете, может еще кто-то кроме вас вышел к своим?
Встречал. Человек тридцать из той группы я встречал и общался с ними в резерве штаба Фронта, а с одним я потом случайно встретился на Сталинградском вокзале. И он мне рассказал, что наш комдив Кулешов спустя 10 или 12 дней после моего ухода застрелился...
Они оказались в таком сложном положении, когда боеприпасов уже совсем не было, что нужно было решать: или сдаваться в плен или... И тогда комдив им сказал: "Я вам уже приказывать не могу, каждый должен решать свою судьбу сам". Отошел в сторонку и застрелился из пистолета... Они рассказывали, что там, где его похоронили, оставили какой-то знак, чтобы потом можно было найти его могилу.
И еще я помню, он мне рассказал, что когда было принято решение выбираться мелкими группами, и уходить с этого места, то в лесном массиве немцы через громкоговоритель обращались уже персонально к ним: "Майор Бельский, - это был наш начштаба дивизии, выходи сдаваться, мы тебя видим..". Вот так небольшими группами и выходили... Кому повезло, а кому и нет. Мне вот повезло...
А вот как вы отнеслись к известию о самоубийстве вашего комдива? Насколько такое решение оправдано в условиях войны? Ведь, наверное, можно было как-то подороже продать свою жизнь?
Тут трудно судить человека, и тем более говорить, как нужно было поступить, или как бы я поступил на его месте. Я же не знаю, в каком состоянии он находился в тот момент, к тому же все-таки ему было лет шестьдесят. Да и что он мог сделать, если не было боеприпасов? Я же вам говорю, что я уходил от них с двумя патронами в пистолете... Ну, хорошо, выстрелишь ты пару раз в немцев, а потом что плен? Но нас так воспитали, что даже сама мысль о плене исключалась...
А Кулешов я считаю, был хороший командир. Раз уж именно наша дивизия смогла ближе всех подойти к Харькову, значит, в оперативном отношении он был сильный командир.
Куда вас направили после того как вы сдали пакет?
Когда в Сталинграде выяснилось, что я летчик, то меня направили в штаб 5-й Воздушной Армии. Там побеседовал с одним капитаном: "Какие машины осваивал? И только-то? Ну, считай, что тебе надо будет фактически заново переучиваться". Ведь в армию поступали уже совсем новые модели самолетов. Поэтому меня должны были направить в Красный Кут под Саратовом, в учебно-тренировочный отряд 5-й Воздушной Армии. Но в отделе кадров мне сказали, что надо немного подождать, чтобы набралась целая команда, и на меня одного не пришлось выписывать все документы. Но после того как я там две недели проболтался, а команда все не набиралась, то мне все это надоело, и я попросил присоединить меня к первой же попутной команде. И как потом оказалось, что эта моя просьба весьма круто, если не сказать радикально, изменила мою жизнь, а может, и просто спасла мне ее...
В ту сторону как раз собрали команду из шестидесяти человек. Они ехали на командирские курсы, где готовили командиров рот ПТР, командиров минометных батарей и противотанковых пушек. Мне сказали, что меня припишут к этой команде, а на станции где им надо будет выходить, комендант наши аттестаты разобьет, и в Красный Кут доеду уже сам.
Я с ними поехал, но оказалось, что там, где они выходили, никакой станции не было и в помине, а был только разъезд, от которого еще надо было идти до этих курсов 12 километров. Что делать? Ради документов мне пришлось пойти с ними, а когда утром нас подняли, то на мандатной комиссии моя судьба и решилась.
Начальником курсов был какой-то казачий полковник. Я ему доложил, что у меня направление в учебно-тренировочный отряд 5-й Воздушной Армии. Он посмотрел его и спрашивает: "А какое у вас общее образование?" - "Десятилетка". - "Ну, тогда будешь учиться на командира минометной батареи". - "Так у меня же направление из штаба Армии". - "Ничего, пиши рапорт, мы его рассмотрим и зачислим тебя. А самовольно уйдешь, будем считать тебя дезертиром!"
А как раз около него сидел особист, к которому я и обратился. Но он мне ответил примерно так: "Слушай, парень, я тебе не советую. Сейчас уже начались тяжелые бои за Сталинград, командного состава не хватает, поэтому нам и поручили его готовить. К тому же я знаю, что сейчас творится в авиации: летчики есть, а машин не хватает, поэтому будешь болтаться в резерве".
Но вы знаете, позднее я был даже рад такому повороту судьбы. Объясню почему. Вот представьте себе. Потери в 41-м были большие, и в нашем полку мы постоянно кого-то недосчитывались, а то и не одного. И вот прилетаешь с задания, а там несмотря на потери, тыловая обстановка: танцы, самодеятельность, как будто ничего не изменилось... И невольно возникала такая мысль: завтра ты не вернешься, а тут все то же самое будет... Этот фактор лично на меня действовал очень угнетающе. В этом смысле в полевых частях все было совсем по-другому.
Правда, я смирился с этим не сразу, и еще какое-то время у меня теплилась надежда, что если буду писать рапорты, то меня все-таки вернут в авиацию. Но она окончательно погасла, когда я в очередной раз побывал у начальника курсов, и он довольно резко оборвал мои надежды: "Вы большую часть времени проучились, и уже почти готовый специалист. Так что больше по этому поводу у меня не появляйтесь. Кругом!"
Сколько вы проучились на этих курсах? Насколько хорошо вас там подготовили, и вообще, что вам из того периода больше всего запомнилось?
На этих курсах мы проучились два месяца, и я считаю, что за это время нас подготовили очень хорошо. Но просто нужно учесть, что лично мне в учебе значительно помогала мои познания в математике. Поэтому, честно говоря, я там только первый месяц добросовестно и отучился, а потом уже скорее по инерции.
Помимо изучения матчасти очень большое внимание уделялось тактике и подготовке данных для ведения огня. Бывало, что на занятиях в поле проводили по 11 часов. Это скажу я вам страшное дело как утомительно, к тому же ведь уже осень была: слякоть, грязь, холод... А так в основном боевая подготовка, и только нарядами нас отвлекали.
А за то, что я хорошо успевал, поэтому меня назначили помошником командира учебного взвода, которому я стал помогать в обучении. И даже по его просьбе иногда проводил занятия с группами курсантов.
И учебные стрельбы у нас тоже проводились, причем у меня они получались на редкость удачно. Я едва ли не с первой мины накрывал цель даже без пристрелки.
Всего на этих курсах училось человек триста. Все курсанты были с фронта, но все совершенно разных специальностей. Были особисты, юристы, даже один член военного трибунала, политработники, помню, одного грузина военного инженера, но больше всего интендантов. Причем, даже по званию все были абсолютно разные. Этот грузин, например, был капитаном. Но все это было понятно, потому что тогда сложилась такая острая необходимость в командирах именно такого профиля.
И тут еще необходимо рассказать об эпизоде, который случился как раз на этих курсах, и который потом многое предопределил в моем положении на фронте. Когда мы только приехали на курсы, то все табельное оружие у нас отобрали. Но я тот парабеллум, который взял у убитого мною лейтенанта, решил сохранить, поэтому попросил его спрятать до окончания курсов одну женщину.
На этих курсах кормили, честно говоря, паршиво, мы все время были голодные, поэтому иногда ходили, помогали работать колхозникам, и за это они нас до отвала кормили тыквенной кашей. Но оказалось, что к этой женщине ходил какой-то инструктор политотдела. И когда уже перед самым отъездом я к ней зашел, а она мне дает записку: "Пистолет изъят инструктором политотдела таким-то". Именно поэтому я и попал на фронт без оружия.
Куда вас направили служить?
Сначала всех нас направили в управление кадров Фронта. Побеседовали с нами кто мы, что мы. Меня опять переделали в лейтенанта, и направили служить в 21-ю Армию. Во время той беседы был еще такой немаловажный момент, когда нас всех предупредили, что мы должны служить строго по специальности, которую получили на этих курсах. Ведь для этого, собственно говоря, нас туда и направляли. Затем нас направили в дивизию, а уже оттуда в полк.
А, кстати, вы тогда в каком звании уже были?
С присвоением звания у меня получилось достаточно интересно. Еще когда я только оказался в военном трибунале, то по их линии меня представили на звание младшего военного юриста, потому что из-за нехватки кадров меня должны были включить в штат. Но в то же время и особый отдел успел отправить письмо в округ с представлением меня к званию сержанта гозбезопасности, а это тоже два кубика. Именно поэтому когда я прибыл на формирование дивизии в Тюмень, то пришло сразу несколько ответов. И председатель трибунала меня вызвал, разложил их передо мной и смеется: "Выбирай". - "Ну, раз я с вами, то давайте младшего военного юриста".
А после окончания этих курсов мне присвоили звание лейтенанта, вернее переделали его из младшего военного юриста. Старшего лейтенанта я получил уже в полку, а капитана мне присвоили незадолго до последнего ранения.
Но перед тем как я попал на фронт, у меня случилась одна история. На первый взгляд она выглядит довольно забавно и невинно, но на самом деле вполне могла закончиться очень плачевно, если вообще не трагически.
Расскажите, пожалуйста.
Когда мы поехали с курсов под Сталинград, то в Саратове была остановка, и мы с приятелями, втроем решили остаться в городе и погулять напоследок. Ведь до этого к нам на курсы приезжали несколько человек, из числа только недавно выпустившихся. Они вроде только-только уехали от нас на фронт, и буквально едва ли не через неделю навещают нас раненые и рассказывают про бои в Сталинграде страшные вещи: "Ребята, там такая мясорубка, что можно только мечтать о ранении, потому что оттуда только две дороги, или в госпиталь или в землю..".
Поэтому впечатление о том, куда мы едем, у нас было очень четкое. А у меня был приятель, наш заводила Вовка Можжин, который до этих курсов служил интендантом. И он мне сказал примерно так: "А ты уверен, что вернешься живым? Нет? И я не уверен. Так давай останемся на пару дней и напоследок как следует гульнем". Но я колебался, и он меня, чем добил. Он был такой форсистый парень, любил покрасоваться, но у него была простая солдатская шинель, поэтому в увольнения он всегда просил мою хорошую шинель. У меня дома оставалась шинель, которую мне выдали после выпуска из училища. Но тогда она мне не очень понравилась, поэтому я ее оставил дома. А уже во время войны я ее немного перешил, и по сравнению с обычной шинелями она смотрелась куда лучше. И тогда Володя уговорил меня такими словами: "С такой-то шинелью все саратовские девчонки будут у твоих ног".
И мы втроем отстали от своей группы. Идем по улице, ищем, где бы переночевать. Смотрим, девушка метет улицу. Спросили у нее: "Девушка, а где тут можно переночевать?" Она на нас так внимательно посмотрела, и говорит: "А у нас и можно". Оказалось, что она была из труппы какого-то эвакуированного театра.
Устроились мы у них и прожили там несколько дней. Но надо же было на что-то существовать, ведь мы не могли пойти отоваривать свои аттестаты, потому что нас бы тогда сразу раскрыли. Поэтому мы продавали на барахолке, что-то из своего обмундирования и покупали продукты. Что могли, они продали, а я продал не только свою диагоналевую гимнастерку, но и даже почти все мое зимнее обмундирование, поэтому потом и оказался в хэбэ и очень сильно мерз.
Вот так мы устроились. Ходили к ним на спектакли, а после них устраивались посиделки. Но у них с продуктами было совсем туго, поэтому мы все, что покупали, вкладывали в общий котел. Но я помню, что на рынке все было очень и очень дорого. Помню, например, что покупали картошку по 60 рублей килограмм, и даже мясо, из которого женщины варили суп. И на всех покупали одну бутылку водки, потому что на большее количество просто не было денег. Если не ошибаюсь, то литр или бутылка водки стоила 1000 рублей. А нас же было человек двадцать, поэтому люди просили дать хоть понюхать ее. Так что ни о какой пьянке, конечно, не было и речи.
А потом мы как-то напоролись на патруль, и нам пришлось бегом от них скрываться, ведь фактически мы же были дезертирами. Забежали в какой-то склад, и девушки, которые там сидели нас спрятали среди мешков с мукой. И вот после этого мы решили, что все, пора нам ехать, а так бы мы, наверное, еще пару дней там пожили.
Но я потом когда все это анализировал, то просто удивлялся какие же мы на самом деле были дураки... Ведь мы же фактически дезертировали, а тогда с дезертирами разговор был короткий... Но все-таки вы должны понимать, что нам было всего по двадцать лет, а это самый возраст, чтобы творить всякие безрассудства...
А вас потом не спрашивали, где вы все это время пропадали?
Нет, мы, когда приехали в Управление кадров Фронта, то вопросов никаких не возникло, потому что туда мы только пешком шли километров шестьдесят-семьдесят. Помню, в одном месте остановились на ночлег у печи, которая осталась от разрушенного дома, развели в ней огонь, чтобы хоть чуть-чуть согреться, и тут по нам немцы открыли артиллерийский огонь. Так что в тех условиях мало ли сколько люди могли добираться.
Куда вы попали служить?
Меня направили в 89-й стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии, но потом нас переименовали в 210-й Гв СП 71-й Гвардейской дивизии. И вот в этом полку я провоевал до моего последнего ранения в феврале 44-го.
Вы вскользь упомянули, что у вас по прибытии в полк произошла какая-то история, которая во многом определила ваше положение на фронте.
Не то чтобы она на что-то сильно повлияла, но привела к тому, что у меня буквально сразу оказались испорченными напрочь отношения с командиром полка. А случилось это вот из-за чего.
Когда я только пришел в этот полк из резерва, то свободных вакансий командиров-минометчиков не было, поэтому этот командир полка. сразу мне предложил возглавить одну из стрелковых рот. Но я отказался, потому что как я вам уже рассказывал, нас в управлении кадров Фронта строго-настрого предупредили служить только по обретенной на курсах специальности. Его мой отказ заметно задел, но что он мог поделать? Не отсылать же меня обратно. А я был не один, а еще с одним лейтенантом. Мы с ним переночевали в какой-то брошенной землянке, и на второй день снова пошли в штаб нашего полка.
Но эта Вишневая балка, в которой находился штаб, была очень разветвленная, а уже смеркалось. Мы до какого-то момента шли, но там была два ответвления: налево и направо. И мы решили, что сначала пойдем вправо. Прошли с километр, а может и полтора, но никаких признаков жизни не видели. И тут в темноте мелькнул огонек, на который мы и пошли. Там оказался какой-то блиндаж, в который мы решили зайти. Мой попутчик шел немного впереди меня, и когда он открыл дверь, то я успел заметить очертания немецких касок, каких-то полуодетых людей и немецкий офицерский мундир, брошенный на нары... В общем, у меня создалось такое впечатление, что это было штабное помещение. А лейтенант уже успел туда войти, и последнее, что я успел заметить, как два немца силой его усадили на табурет. Но я же вам говорил, что на фронт мы приехали совсем без оружия, а в запасном полку нам сказали, что личное оружие выдадут позже.
И вот я стою перед этим домиком, причем, там никакого часового не было, но зато и у меня оружия не было. Подождал немного, но что я мог сделать? И я оттуда ушел, но понял, что нужно срочно где-то добыть пистолет, потому что на фронте человек без оружия просто как дурак. Я подумал, что надо срочно или как-то достать, или трофейный где-то найти. И вы не поверите, утром, едва ли не у штабной землянки я нашел кобуру с немецким пистолетом. И только я успел подумать: "Вот повезло", стою, рассматриваю его, а тут как раз идет командир полка. И когда он увидел, что я рассматриваю этот пистолет, то сказал мне так зло: "Значит, трофеи ты собирать можешь, а как воевать, так в жопе колет!" Я ему попытался объяснить ситуацию: "Воевать я не отказываюсь, но есть такой приказ, что специалистов использовать строго по назначению". И вот с тех пор, а получается, что фактически с первого дня моего появления в полку, у нас установились весьма прохладные, я бы даже сказал натянутые отношения. И при любой возможности он меня старался как-то поддеть. Даже бывало, когда ставит нам задачу, говорит мне: "А ну-ка несостоявшийся сталинский сокол..". Все смеялись, поэтому я даже стал скрывать свое летное прошлое.
А ведь я же ему объяснил, что ищу оружие, потому что мой товарищ попал в плен, и я сейчас сам едва в плен не попал... И вот так получается, что мой попутчик меня тогда фактически спас...
Причем, в этом же овраге у меня потом случился похожий случай. Я тоже искал, где бы переночевать, и нашел брошенную немецкую землянку. Причем, внутри нее нашел даже маленькую плитку, круглую такую с фитильком. Вот думаю, повезло мне. Правда, уже наученный горьким опытом обошел все кругом, но все было спокойно. Затопил печку, отоспался. А когда утром проснулся, то увидел, что буквально метрах в ста от меня немцы строили землянки... Но мне опять повезло, потому что они почему-то не обратили на меня внимание, и мне удалось незаметно оттуда улизнуть.
Вообще надо сказать, что в этих оврагах под Сталинградом все было перемешано. Помню, как-то в этой же Вишневой балке было такое. Между нашими и немецкими позициями было всего метров сто, а между нами овраг. Причем, у нас окопы были неглубокие, наскоро отрытые в мерзлой земле. Только на коленках там и можно было в них укрыться. Я в один из них залез, но зима-то ведь была очень суровая, и я буквально до костей промерз. Уже часа два или три ночи, а я все уснуть не могу, настолько было холодно.
Но там кругом валялись какие-то немецкие журналы, и я решил развести из них небольшой костерок, чтобы хоть немного обогреться. Собрал сколько смог, от снега их очистил и поджег. Но они неожиданно для меня сразу сильно вспыхнули, и немцы открыли на свет огня просто шквальный огонь. И хотя снаряды и мины разрывались немного дальше от меня, но я решил, что нужно чем-то укрыться. Рядом лежали два или три трупа, и я накрыл ими свой окопчик. И все бы хорошо, но от тепла огня эти трупы подтаяли и сверху на меня начала капать какая-то пакость... В общем, настоящая ночь кошмаров...
Вот вы упомянули про немецкие журналы, и я хочу спросить, а не опасно ли было читать немецкие листовки, например?
У меня был такой случай в госпитале. С нами лежал один офицер, который выписывался раньше меня. Ему принесли его обмундирование, и тут он вдруг из кармана своей гимнастерки достает эту прокламацию: "Пропуск в немецкий плен". И начинает вслух ее читать. Но почти тут же появился госпитальный особист, видно его вызвала медсестра, и этого офицера куда-то увели. Правда, я не знаю, чем эта история закончилась, привлекли его или нет. Но он нам тогда успел рассказать, как она у него оказалась. Когда немцы сбросили эти листовки, то ему поручили их собрать и уничтожить, а одну он положил себе в карман, и его тут же ранило.
Но вообще мы эти листовки даже и не читали, просто выбрасывали их, потому что уж очень топорно были сработаны эти агитки. Например, я помню, что когда мы двигались на Курскую дугу, немцы среди местного населения распространяли листовки примерно с таким текстом: "К вам движутся Сталинградские головорезы! Это отпетые преступники, так что эвакуируйтесь вместе с нами".
Вы участвовали в Сталинградских боях. Что-то из них вам особенно запомнилось?
Там случилось много всего, но я бы хотел особо отметить тот факт, что именно после боев под Сталинградом у меня произошел перелом в моем отношении к немцам. В это трудно поверить, но даже после тех кошмарных боев и диких потерь под Харьковом у меня не было к ним ненависти. Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю, расскажу вам такой эпизод.
Это было 2-го или 3-го февраля под Сталинградом. Перед нами стояло очень много брошенных немцами машин, а так как было очень холодно, я сильно замерз, поэтому залез в одну из этих машин. Накрылся трофейными одеялами, но, несмотря на то, что был сильно измотан, сон почему-то никак не наступал. И вдруг я слышу, как мои солдаты говорят, что немцы пошли в атаку. И в этот момент меня такое зло взяло, потому что все уже было решено, бои уже закончились, немцы и румыны толпами сдавались в плен, а нам что опять воевать?! И оказалось, что это был финский егерский батальон. Как потом мне рассказывали к ним ходили наши парламентеры, предлагали им сдаться, обещали все гарантии, но они отказались. Командир батальона, гауптман, ответил так: "Пусть солдаты поступают, как хотят, можете поговорить с ними. А я свой воинский долг буду выполнять до конца". И потом видно, когда все отказались, он дал команду на атаку.
А надо сказать, что под Сталинградом последний месяц мы воевали фактически обозами. Наши части были сильно обескровлены, поэтому для видимости выдвигали вперед всех кого только можно, вплоть до ездовых с лошадьми. И даже мне тогда предложили сдать минометы, и мы стали воевать простыми стрелками.
В общем, отбивать их атаку выскочили мы, рядом оказалась еще рота автоматчиков. Все вместе открыли по ним сильную стрельбу, и они побежали. А я увидел, что буквально прямо рядом со мной, метров десять, наверное, развернулся финский офицер и бросился бежать. Но я подумал, что надо ему хорошенько всыпать и побежал за ним. Он оглянулся, увидел, что я за ним бегу, и бросил мне прямо под ноги гранату, такую, знаете, с длинной рукояткой. И спасло меня то, что на мне были ватные штаны, валенки, да и эти их гранаты были не особо эффективные. В общем, граната разорвалась, наверное, в метре от меня. Мне посекло осколками ноги, но в целом ранение было легким.
Я упал, но мои солдаты его все равно поймали, стащили с него штаны, врезали ему по заднице, и он даже заплакал... Но я на что хочу обратить внимание? Что когда побежал за этим офицером, то я не хотел его убивать, у меня и мыслей таких даже не было, я же был еще совсем мальчишка, а просто хотел взять его в плен. И даже после того, как он же меня чуть и не убил, то у меня не появилось желания с ним "рассчитаться", и у моих солдат тоже. Мы считали, что бои уже закончились, Паулюс уже сдался, немцы сдаются, какая там война? И вдруг эта атака... Я потом, кстати, спрашивал многих ветеранов, но никому кроме меня с финнами сталкиваться не пришлось. Причем, я был так сильно удивлен, ведь все уже было предрешено, и, причем, как выяснилось, они уже сильно голодали, и все равно отказались сдаваться...
Но немного позже произошел случай, после которого в моем отношении к ним произошел настоящий переворот. Под Сталинградом мы освободили местность, где как, оказалось, был немецкий лагерь для наших военнопленных. А рядом, кстати, мы захватили немецкий аэродром, на котором находились абсолютно целые самолеты. Мне как летчику было особенно интересно там все посмотреть, но, честно говоря, гораздо больше нас интересовало шелковое белье, потому что вши нас просто заедали. Хотя когда я залезал в самолеты, рассматривал кабины, приборные доски, управление, то у меня это вызвало что-то вроде ностальгии, да еще какую...
А когда мы оттуда возвращались в свое расположение, то встретили настоящего, что называется, доходягу. И оказалось, что это один из заключенных этого лагеря. Спросили его, откуда он: "Да вот из Гумрака.."., это вроде так тот лагерь назывался. Он уже еле-еле мог ходить, но я его привел к себе в землянку. Он попросил поесть, и тут я, честно говоря, не сообразил. Я попросил ординарца пойти к солдатам, и попросить у них хоть что-нибудь из еды. Он сходил и принес полбуханки хлеба. И этот голодный, конечно, набросился на хлеб, съел его и прямо у меня на глазах умер...
И вот только в этот момент я подумал, это кем же надо быть, чтобы людей до такого состояния доводить... Но если раньше я еще думал, что немцы такие же люди как и мы, то когда я увидел этот ходячий скелет... Но, правда, до этого я и не знал, какая горькая участь ждет наших пленных. Конечно, что-то нам рассказывали политработники, но вот пока я сам этого не увидел, то по-настоящему не понимал...
И, кстати, незадолго до этого был еще такой случай. В месте, которое называлось Конный разъезд, хотя там было совершенно чистое поле, немцы начали обстреливать наши позиции из зенитных пушек. А это, скажу я вам, страшное дело, потому что если при обстреле из обычных пушек еще как-то можно сориентироваться, то тут вообще никак. К тому же эти зенитки были скорострельные, в общем, у меня в батарее сразу появились большие потери.
А у нас на виду был какой-то то ли барак, то ли полевой стан, буквально метрах в двухстах-трехстах от нас, и как оказалось, в нем немцы разместили свой то ли госпиталь, то ли санбат. Просто мы так стремительно за ними наступали, что оказались прямо перед ним, и они не успели его эвакуировать.
И вот тогда у меня состоялся такой разговор. Мои бойцы, озверев от огня этих зениток, решили расстрелять этот госпиталь. Но я стал возражать, что по госпиталю стрелять нельзя. Так меня мои бойцы буквально взяли за руки и спрашивают: "Почему это они нас могут убивать, а мы их нет?.. Товарищ лейтенант не возражайте". И мы этот госпиталь вместе со всеми ранеными разнесли к чертовой матери...
А какие зверства потом открылись в Сталинграде... Мне лично приходилось видеть местных жителей: бледные, истощенные... Так что после этого случая с пленным я их стал ненавидеть, и по отношению к ним стал просто как охотник. Например, я вам расскажу такой характерный случай.
Где-то в конце июля 1943 года в районе Ахтырки мы выбили немцев, помню, что у нас еще говорили, что там у них был дом отдыха для офицеров. И там получилось так, что между нами и немцами было метров четыреста всего, но зато там оказалось непроходимое болото. Правда, немцы расположились на небольшой высотке, поэтому в бинокль мне было прекрасно видно, что вдоль их позиций на лошади проезжал немецкий офицер, и так каждое утро.
Мне стало интересно, зачем это он ездит, и в сумерки я полез в это болото, потому что так их позиции не просматривались. В болоте солдаты мне проложили что-то вроде тропинки из досок от ящиков для мин. И так от кочки до кочки, я выдвинулся вперед, чтобы узнать, что же все-таки у них там такое происходит. Целую ночь я просидел в болоте, по пояс в этой тине, а утром увидел, что у них там какое-то то ли собрание, то ли какие-то занятия. Но они понимали, что это место с наших позиций не просматривалось, и поэтому у них видимо немного притупилась бдительность, но я тогда подумал: "Ну, я вас проучу..".
На следующий ночь я туда выдвинулся уже с телефоном, и как рассвело, где-то в километре от этого места я пристрелял телеграфный столб. Потом думаю, нет, нужно все-таки еще уточнить. Выпустил мину в том направлении, но с недолетом, чтобы не вспугнуть их. Убедился, что все правильно, внес поправки. И часов в девять-десять утра у них опять начался этот сбор. Лиц, я их, конечно, не различал, но большую группу немцев, человек сто их, наверное, было, я видел прекрасно. Дал команду батарее приготовить на каждый миномет по три мины, а ведь у 120-милимметровых минометов они по 20 килограммов каждая... И по моей команде накрыли эту группу беглым огнем... А когда я потом опять посмотрел в бинокль, то увидел, что всего несколько человек еще шевелятся, а остальное в кашу...
А вас не должны были наградить за уничтожение фактически целой немецкой роты?
Это же была моя обычная боевая работа, поэтому я даже и не докладывал об этом командованию, и тем более не заикался о наградах.
Раз уж мы затронули тему о наградах, то у меня тогда к вам такой вопрос. Насколько справедливо, на ваш взгляд, награждали на фронте?
Впервые я об этом стал задумываться, только когда мы уже начали освобождать Белоруссию. Меня тогда назначили командовать учебным дивизионом, потому что среди минометчиков были большие потери, сержантского состава не хватало, поэтому мне поручили организовать обучение. В течение двух месяцев мы обучали людей на командиров орудий и наводчиков, но при этом мой дивизион не был освобожден от выполнения боевых задач, их мы выполняли наравне со всеми остальными частями.
Собственно этого дивизиона даже еще и не было, это я и должен был набрать людей из запасного полка, и все организовать. И вот когда мне тогда пришлось бывать в штабе дивизии, то мне открылась и другая сторона военной жизни. Я так удивился тому, сколько там было награжденных людей. Даже девчонки связистки, машинистки и те были награждены. И вот тогда я подумал, что как же мало мы представляем к наградам своих солдат...
Поэтому у меня потом была даже обида за моего бывшего подчиненного. Одно время у меня в батарее писарем был парень, даже не помню сейчас его фамилии. Но он все время рвался от меня уйти: "Не хочу быть писарем". А мне его, было, просто жалко, потому что он и молодой был совсем, года 23-го или 24-го, и к тому же щупленький совсем. Но, в общем, допек он меня: "Куда хочешь?" - "В стрелковую роту", потому что у него там уже появились друзья, знакомые. И вот с ним получилось так.
Где-то на границе Белоруссии с Калининской областью, его отделение со станковым пулеметом расположилось на высотке, которая была очень интересная для нас в том плане, что с нее просматривались и простреливались все окрестности. И как потом оказалось, когда немцы пошли в атаку, то все кроме него погибли. Ему самому оторвало кисть, но он кое-как перемотал ее, и, отстреливаясь из пулемета, фактически в одиночку отстоял эту высотку. Причем, немцы много раз атаковали, но, в конце концов, оставили ее в покое.
А все это происходило прямо на моих глазах, потому что с моего НП эта сопка прекрасно просматривалось, она была буквально метрах в четырехстах от меня. А так как я все это лично видел, то доложил ПНШ-2 дивизии по разведке, что вот мой бывший солдат добровольно попросился в стрелки, и в бою отстоял важную позицию. Он за это дело сразу ухватился, "Ну, как ты думаешь, чем его стоит наградить?" - "Думаю, что надо представлять к герою". Он со мной согласился, и, действительно, его представили на ГСС, но потом я узнал, что в госпитале ему вручили только орден Ленина. И хотя это тоже очень высокая награда, но у меня за него даже обида появилась, особенно после того, что я увидел, что творилось в штабе дивизии... Но это же было уже начало 1944 года, а я вам например, лучше расскажу такой случай, чтобы вы лучше понимали, как обстояло дело с наградами в начале войны.
Еще до начала наступления на Харьков, т.е. получается весной 1942 года, наша дивизионная разведка в районе Волчанска переправилась через Северский Донец. У них была задача узнать, какие немецкие части стоят напротив нас, но они ее перевыполнили. Эти разведчики умудрились захватить в том поиске целый артиллерийский расчет с орудием, но пушку пришлось бросить на берегу, а весь расчет они вывели в наше расположение. И что вы думаете? Командира поиска наградили медалью "За Отвагу", а остальным вручили, кажется, "За боевые заслуги". Но вы только представьте себе саму эту ситуацию, выкрасть целую пушку со всем расчетом... В 44-м и в 45-м они бы за такое совершенно точно ордена получили. А тогда нам командир дивизии прямо так и сказал: "Сейчас не время для награждений. Вот когда начнем побеждать, тогда и награды будут".
Но вообще с этими наградами... Вот у меня, например, бой, за который я получил свою первую награду - медаль "За отвагу".
Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее.
Наши позиции тогда находились на железнодорожном разъезде Герцовка, это на Белгородщине, который мы захватили за несколько дней до этого. Но то, что немцы обязательно предпримут попытку отбить его назад, было совершенно очевидно, потому что с этого разъезда вооруженным взглядом можно было просматривать километров десять-пятнадцать в глубь нашей обороны. Недалеко от моей батареи располагалась батарея противотанковых пушек, а километрах в четырех позади нас разместилась полковая артиллерия, которая простреливала весь район предполагаемой немецкой контратаки.
Наступила ночь, но мне почему-то не спалось. Появилось какое-то смутное чувство тревоги, причем, я даже не сразу понял почему. Только потом я сообразил, что утихла стрельба, стало непривычно тихо, к тому же немцы перестали пускать осветительные ракеты. В общем, это необъяснимое предчувствие опасности нарастало, и я решил сходить в расчет кочующего миномета. Ведь почти каждую ночь, чтобы дезориентировать немцев я выдвигал вперед, за боевое охранение, один расчет, который вел беспокоящий огонь.
Я дошел до блиндажа боевого охранения, увидел, что трое бойцов спали, а с сержантом Соколовым, который не спал, мы даже успели немного поговорить. Он успел мне рассказать, как сильно хочет вернуться к жене и сыну... И тут, как раз в том месте, где по моим расчетам должен был находиться расчет кочующего миномета вдруг вспыхнула ожесточенная перестрелка. Мне сразу стало понятно, что на наш расчет напоролись немцы, и бросился к телефону. Но связи уже не было, потому что как потом оказалось, немцы ее перерезали.
Тогда я выхватил ракетницу, чтобы подать сигнал к бою, но только выскочил из блиндажа и успел сделать несколько шагов, как на меня свалился немец. Под его тяжестью мы упали на дно окопа, к тому же окоп был узкий, повернуться было тяжело, да еще как назло правый бок с кобурой, и рука с ракетницей оказались подо мной. А немец меня уже схватил за горло и начал душить... И все же короткого мгновения мне хватило, чтобы я как-то успел вывернуться из под него, выстрелил из ракетницы, и попал ему прямо в лицо... Он по скотски взревел, обмяк и упал на меня.
А когда я из-под него освободился, и бросился назад, то было уже поздно. Трое убито, а Соколов смертельно ранен... Но даже в этой предрассветной мгле я успел определить направление немецкой атаки. Я успел понять, что немцев было много, и что, обходя мой НП, они хотят захватить всю высоту. Но они нарвались на батарею противотанковых пушек, и было понятно, что как только они перебьют всех артиллеристов, а это дело пары минут, то захватят весь разъезд.
Тогда я бросился на НП и на ходу принял решение - вызвать огонь на себя. Потом в полку говорили, что я совершил геройский поступок, про этот бой даже статья появилась в нашей дивизионной газете: "Рубеж славы", но ведь если так рассудить, то я так поступил, потому что у меня просто не было другого выхода. К тому же даже в пылу боя я понимал, что шансы выжить у меня есть, потому что блиндаж был достаточно крепкий. В общем, вызвал я огонь на себя, и после сильного артналета немцы, понеся большие потери, отошли.
Но я к чему это рассказал? Ведь если бы мы в том бою утратили эту позицию, то это была бы катастрофа. Поэтому уже, когда мы ее отстояли, и когда у убитого мною обер-лейтенанта нашли карту, по которой выяснились и цели этой немецкой атаки, и количество сил, то прямо к нам на позицию приехал наш комдив Сиваков и лично вручил нам награды. И он мне тогда сказал: "Прости, у меня сейчас кроме медали "За отвагу" больше ничего нет, но за такой бой я просто обязан тебя отметить".
Я не могу сказать, что этот бой оказался для меня самым тяжелым. Нет, бой как бой, один из многих, но вот по чувству опасности, он, конечно, для меня один из самых памятных. Помню, что после него я чувствовал огромное душевное опустошение... Ничем не мог заниматься, ходил без дела, как оглушенный...
Так вот, этого сержанта Соколова за этот бой посмертно наградили орденом "Боевого Красного Знамени". Хотя, что он такого сделал? Собственно ничего особенного, ведь их подорвали почти сразу после короткой перестрелки. Так что я сейчас, когда это все анализирую: что остался один, вызвал огонь на себя, и помог отстоять важную позицию, то понимаю, что заслужил больше, чем медаль "За отвагу". Если бы этот бой случился не в 1943-м, а в 44-м или тем более в 45-м, то этот эпизод бы получил совсем другую оценку, и я бы получил совсем другую награду.
Но вы поймите, я это не из чувства обиды говорю. Я и тогда не за награды воевал, а сейчас они мне тем более не нужны. Просто объективности в этом вопросе иногда было мало, но мы тогда на это внимания не обращали, у нас считалось, отметили и хорошо.
Или взять, например, бой, за который мне вручили мой первый орден "Красной звезды". Ведь там была ситуация вообще несравнимая с тем боем у Герцовки, но мне вручили не медаль, а орден.
Расскажите, пожалуйста.
Вечером мы перешли на новые позиции, и, причем нам тогда сообщили, чтобы мы были начеку, потому что против нас могут стоять власовцы. Почему так решили? Да потому что немцы семечки не едят, а там вокруг все было буквально усыпано шелухой.
У нас как раз готовилось наступление, и командира стрелкового батальона я предупредил, что во время артподготовки и атаки буду поддерживать его огнем. И вдруг, ночью разразился бой. Батальон драпанул, и мы остались совершенно одни...
Но все-таки это большое дело, когда командир достаточно опытный, и хотя бы несколько месяцев уже провоевал. В этой сложной ситуации я не растерялся, тут же приказал занять круговую оборону, и мы, стреляя только из стрелкового оружия, потому что из минометов стрелять уже было поздно, отбились и отстояли наши позиции.
Командир этого батальона был в таком восторге, потому что он думал, что ему уже трибунал светит. Он меня просто на руках готов был носить, поэтому прямо утром направил на меня и еще несколько человек наградные листы.
Так разве можно сравнить по значимости эти бои? Тут была просто частная операция, а под Герцовкой фактически стратегическая... Несоразмерность важности этих боев очень большая, а награды совсем разные. Так что в этом вопросе многое зависело от разных факторов. Но никогда из-за наград у меня не было никакой обиды, потому что после той мясорубки, что я прошел, и побывал в таких ситуациях, понимаю, судьба меня все-таки хранила, так что желать еще каких-то наград...
А сколько всего у вас наград?
Медали "За отвагу", "За оборону Сталинграда", два ордена "Красной Звезды" и орден "Отечественной войны".
А за что вам вручили второй орден "Красной Звезды"?
За удачные бои при взятии Витебска. Наш полк после этих боев даже получил почетное наименование "Витебского". Там мы очень удачно поучаствовали в артподготовке, подавили артиллерийскую батарею. Но, главное, в чем считаю, была моя заслуга, что когда немцы контратаковали, то я очень вовремя отсек от танков пехоту, а все эти танки, штук пять их было, подорвались на минном поле.
А то, что например, в 1985 году к сорокалетию Победы всех живых ветеранов наградили орденами "Отечественной войны" я считаю очень правильным решением. Ведь очень много солдат, которые этого заслуживали, так и осталось ненагражденными. И у меня, например, на совести, тоже есть такой грешок. Ведь, например, на Курской дуге были одни сплошные бои, и когда там было заниматься представлением к наградам? У меня, кстати, был еще такой случай, который тоже дает определенное представление о "наградном" вопросе.
Как-то ко мне в батарею с пополнением пришел младший лейтенант. А у нас до этого было дня три непрерывных боев, все просто смертельно устали и хотели отдохнуть. Я тоже лег поспать, и вдруг меня будит писарь, и говорит, что в штабе полка срочно требуют наградные листы на отличившихся в последних боях. Но я очень хотел спать, поэтому попросил этого младшего лейтенанта: "Напиши на таких-то людей наградные листы, а мой замполит тебе в этом поможет". - "Да если бы так, но вы попробуйте, поднимите сейчас замполита. Все спят как убитые". - "Тогда сам напиши". - "Да я и не знаю, как писать наградные". - "Бери писаря, он тебе покажет, кто нужен, вы их разбудите и спросите о чем нужно". И чтобы его как-то заинтересовать, сказал ему: "И на себя тоже напишешь", хотя он в этих боях участия не принимал. Он так и сделал, и действительно, вскоре получил медаль "За боевые заслуги". Правда, он эту награду потом по праву заслужил, но я его уже не представлял, а пропустил очередь. И хотя вроде бы все было нормально, но какой-то неприятный осадок у меня в душе все равно остался, что я так некрасиво поступил.
А награды как-то обмывали?
У меня сложное отношение к спиртному, и я даже вообще считаю, что не стоило выдавать эти, как их тогда называли, "наркомовские" сто граммов. Они потом боком вышли нашему народу, потому что приучали людей к водке...
Уже после войны в Свердловске одно время я ходил обедать в офицерскую столовую. И мне казалось просто диким, что офицеры не садились есть без ста граммов... А где сто там и двести и больше... Помню, что наблюдая эту картину я подумал тогда: "Да, далеко мы так пойдем..".
А ведь еще до войны в нашем народе было весьма негативное отношение к выпивке. Это я вам совершенно точно говорю. Считалось, что если человек выпивает, то он уже пропащий...
Например, в нашей семье почти совсем не пили. Помню, что когда я еще учился в школе, то отец однажды вдруг захотел выпить пива. Но ему было стыдно, что о нем подумают люди, поэтому он сказал маме, чтобы она взяла с собой чайник, и принесла пиво в нем, чтобы люди не догадались...
А посмотрите, как сейчас ведет себя молодежь? Особенно девушки... Поэтому я считаю, что наше поколение было на голову выше нынешнего во всех смыслах. Конечно, причин, из-за которых наш народ стал... по-другому выглядеть много, но вообще, я согласен с теми, кто говорит, что война выбила из нашего народа самых лучших и честных людей, и от их потери мы так и не оправились... Вы себе даже не представляете каким было поколение 21-го-23-го годов, а ведь из них осталось в живых всего два-три процента...
А о роли спиртного на войне я могу сказать, что именно из-за водки было много случаев неоправданных потерь, из-за нее появлялась эта бравада, притуплялось чувство опасности. И могу вам рассказать про случай, после которого я дал себе зарок никогда не пить в боевой обстановке, потому что понял, насколько это может быть опасно.
Когда мы взяли большое село Мостовое, то командир стрелкового батальона, обрадованный тем, что это удалось сделать легко и почти без потерь, позвал меня к себе отметить такой успех. А до этого из-за боев я ночью совсем не спал, и, кроме того, в тот день ничего не ел. Я пришел к нему, и он мне говорит: "У меня есть консервы и трофейное вино", и наливает мне кружку. А я даже свои сто граммов никогда не пил, потому что со спиртным вообще не дружил. Лучше расскажу вам небольшую историю, как произошло мое знакомство со спиртным.
Еще когда я служил летчиком на Дальнем Востоке, то как-то мы с одним лейтенантом поехали в Благовещенск для того чтобы сфотографироваться на комсомольские билеты. Приехали в город, но он мне сказал: "Давай не будем останавливаться в гостинице. Ее окна выходят прямо на маньчжурский город Сахалян, поэтому за ней всегда наблюдают японцы. А мы же не хотим, чтобы японцы за нами постоянно наблюдали. Лучше остановимся у моего знакомого", и мы так и сделали.
Пришли в общежитие к его знакомому, а там тогда почему-то была такая мода пить разведенный спирт. А я до этого вообще спиртное не пробовал, ни пива, ни вина, вообще ничего. Я же усиленно занимался спортом, поэтому считал, что спорт и выпивка это просто несовместимые вещи. Его приятели сразу принесли спирт, разлили всем, и в том числе и мне. Но это был еще первый месяц моей службы там, и мне не хотелось выглядеть в их глазах таким несмышленышем. Поэтому постеснялся им сказать, что вообще не пью, а сказал: "Я спирт никогда не пил, поэтому не знаю, как он мне пойдет". - "А мы тебя сейчас научим. Выпьешь спирт, запьешь его стаканом воды и потом закусишь салом". Вот думаю, удовольствие, пить не пью, так я же еще и сало вообще не перевариваю... Но я сделал как они меня научили. Налили мне полстакана спирта, я запил его водой, и сразу отключился... Причем, думаю, что скорее, это было даже не опьянение, а отравление.
Проснулся часов в 11 утра, один, никого нет. И когда вышел из этого общежития, то по дороге раз пять или шесть заходил в столовые и кафе и заказывал себе чай, настолько мне было плохо... А в последнем меня официантка даже спросила, не заболел ли я. В общем, едва добрался до части, и сразу пошел к врачу. Рассказал ему эту историю, он меня положил в санчасть, и где-то неделю я там провалялся.
И вот с тех пор я эти сто граммов никогда не пил. А в летном полку водку нам выдавали в шкаликах, я их складывал под кровать, так ко мне ребята прямо ватагами ходили, потому что знали, что я свою водку не пью. В общем, я это вам рассказал, чтобы вы понимали, какие у меня были взаимоотношения со спиртным.
Сели мы с этим комбатом в стоге сена, а он уже был немного навеселе, и мне не хотелось обижать его отказом. К тому же я попробовал это вино, и оно, действительно, на вкус оказалось вполне даже приятное, сладкое. Но когда я выпил кружку этого вина, то опять отключился...
А проснулся от какого-то гула. Во-первых, болела голова, и, во-вторых, стоял какой-то непонятный гул. Выглядываю из этого стога и вижу, что по другую сторону, буквально метрах в пяти от меня стоит немецкий танк, и прямой наводкой бьет по позиции моей батареи... Я даже видел оттуда, как разбегаются мои бойцы ...
Я сразу побежал на свой НП, а там командир взвода управления встречает меня с бутылкой коньяка: "Товарищ комбат, сначала выпьем, а уже потом и драпанем". Ну, тут я ему, конечно, все сказал... Прибегаем на КП батальона и комбат, с которым мы сидели в стогу, меня "порадовал": "Тебя уже несколько раз спрашивал начальник артиллерии дивизии".
Тут возле КП стали собираться мои батарейцы, я к ним подошел, но оказалось, что вся наша матчасть осталась на брошенных позициях... В такой ситуации у меня уже появились самые разные мысли в голове, а тут еще один из моих солдат меня сильно смутил. Он еще в Сталинграде нехорошо отличился на почве охоты за трофеями, мне тогда много нервов из-за него потрепали. И тут, в такой непростой ситуации, он подходит, и протягивает мне мед, который он где-то достал: "Угощайтесь, товарищ комбат". А мне как раз до этого меда... Причем, мне еще запомнилось, что его штаны были разодраны, потому что болванка из немецкого танка прошла у него прямо между ног...
Я кинулся на своих солдат: "Как бросили оружие, так и доставайте его, как хотите, а не то всю батарею отдам под суд". А сам думаю: "Во главе со мной..". В это время опять позвонил начальник артиллерии дивизии и меня позвали к телефону: "Вот что. Часа через два пехота пойдет в атаку отбивать Мостовое. Это очень важная операция, потому что село имеет стратегически важное для нас значение. Но имей ввиду, если хоть одна огневая точка не будет подавлена и откроет огонь по пехоте, то я тебя лично расстреляю... Операция находится на контроле в штабе фронта"...
Признаюсь, у меня просто не хватило духа ему сказать, что все минометы мы бросили и отступили метров на четыреста... Тут я, конечно, лихорадочно стал думать, что делать, но на мое большое счастье атаку по каким-то причинам отменили, и она не состоялась. А ночью мы в обозе достали вожжи, связали их, и вытащили с прежних позиции буквально все, вплоть до боеприпасов. Но нам в этом случае просто повезло, что там прорвались только немецкие танки без пехоты.
И я потом спрашивал этого комбата, как же так получилось? Он мне говорит: "Я вижу, что ты спишь, обстановка спокойная, поэтому и ушел". А когда уже завязался бой с этими немецкими танками, то ему, понятно, было уже не до меня. И вот после этого случая, я дал себе зарок никогда не пить в боевой обстановке, потому что понял, насколько это опасно.
Но как вы думаете, вас действительно, могли бы и расстрелять, если бы ту атаку не отменили?
На войне все возможно, так что об этом лучше не думать... Кто знает, как бы там дело обернулось? Может, отправили бы в штрафбат, а может, и сами бы все решили... Списали бы на боевые потери и все...
А вам не приходилось слышать о подобных случаях?
Не только слышал, но и лично видел... Бывали такие командиры, которые могли совершить такое, хотя они были скорее как исключение. Например, тот же наш командир полка, который постоянно надо мной подтрунивал. Но ему такое прощалось, потому что он сам был человек лично храбрый. Мне, например, как-то в одном бою самому пришлось видеть такую картину. Наша атака захлебнулась, солдаты залегли, и тогда командир полка прямо на автомашине выехал на это поле и начал поливать немцев из счетверенной зенитной установки. Солдатам стало стыдно, и они поднялись в атаку.
Так вот с ним однажды произошел именно такой эпизод, который на меня произвел тягостное впечатление, и даже вызвал у меня возмущение, но когда я узнал все обстоятельства происшедшего, то уже и не особенно винил его.
Со мной на курсах учился один старший лейтенант, который до этого служил интендантом. В нашем полку он был заместителем одного из командиров батальонов по материальному обеспечению, но еще по учебе я помнил, что он любил выпить. И как мне потом рассказали в штабе полка, в тот момент, когда это все случилось, он был пьяный. Насколько я помню, он должен был получить на весь свой батальон боеприпасы, распределить их, но вместо этого он в очередной раз перепил и ничего не сделал.
А утром, когда шел бой, и все это выяснилось, командир полка прямо за шиворот вытащил его из палатки, и со словами: "Собаке собачья смерть" лично застрелил его... И я помню, что когда потом мы с другими офицерами это обсуждали, то начальник штаба полка нам сказал: "Нет, он поступил правильно. Конечно, можно было бы его и в трибунал отправить, но так он перед всем народом сразу показал, что значит срывать операцию..". Такую картину, конечно, даже вспоминать тяжело, но я считаю, что в таких случаях нельзя судить с позиций мирного времени...
И еще был случай в Сталинграде. Я как раз только прибыл с курсов в свой полк, то увидел картину, которая произвела на меня просто тяжелейшее впечатление... Комендант штаба полка, татарин, лично расстреливал с десяток немцев. Но как оказалось, это были не немцы, а одетые в немецкую форму власовцы. Они стояли группой, и кто плачет, кто что, а он в них стрелял из винтовки...
Но с высоты своего возраста я могу сейчас сказать, что каждая война - это жестокость, когда оправданная, а когда и нет... Но по другому тут и нельзя... Я же когда убил того немецкого лейтенанта тоже ведь вначале переживал, думал о том, что у него есть мать, но с другой стороны это ведь война...
А ведь у меня был еще один очень неприятный случай.
Расскажите, пожалуйста.
Когда мы только прибыли на Курскую дугу, расположились, но еще до начала боев, по случаю присвоения дивизии и полку почетного звания гвардейских, наш командир полка, я не хочу называть его фамилию, чтобы меня не обвинили в том, что я порочу его доброе имя. Так по такому торжественному поводу он решил устроить для офицеров банкет. Всех нас пригласили на КП полка, который был километрах в десяти от моей батареи. Но я туда приехал уже без всякого праздничного настроения, потому что решил поехать верхом на молодом коньке, чтобы похвалиться перед своими товарищами. Это был очень красивый трехлеток, но оказалось, что совершенно необъезженный. Поэтому мне с большим трудом удавалось с ним справляться, его все тянуло в разные стороны, а прямо на обочинах дороги начинались минные поля... Даже пришлось несколько раз слезать, и тащить его обратно на дорогу. В общем, так я с ним намучился, поэтому приехал на праздник уже без всякого настроения. Даже пожаловался своему ординарцу, что больше на нем ни разу не поеду. И, кстати, где-то через полгода я этого конька вдруг увидел в обозе и еле его узнал. От былой красоты ничего не осталось: худющий, измученный...
Банкет прошел нормально, но мой ординарец то ли забыл, то ли плохо закрепил седло, и когда я садился, чтобы возвращаться на батарею, то седло поехало, и я с лошади упал. В общем, настроение опять было испорчено. А когда мы ехали на батарею, то нас вдруг остановили ребята из заградотряда, которых я хорошо знал, и которые прекрасно знали меня. У них, оказывается, была инспекторская проверка. А из-за плохого настроения, и из-за этого падения, я совсем забыл спросить пароль. Но я ведь этих заградчиков даже по именам знал, поэтому, когда они нас остановили, я им сказал: "Да вы что ребята? Вы же меня знаете". Но они мне так тихо говорят: "Мы то знаем, но у нас проверка".
И тут к нам вышел один из проверяющих: "Это кто?" - "Командир минометной батареи". - "Пароль знает?" - "Нет". - "Не пропускать". И тут я обернулся к ординарцу и сказал так с улыбкой и некоторой издевкой: "Ну, что, Жорка, видно в плену сегодня окажемся".
Этот проверяющий молча снял автомат, и, не глядя, дал очередь поверх наших голов, и мы ускакали на батарею. Но помимо того, что они меня и сами прекрасно знали, у меня была и очень заметная деталь в одежде. Незадолго до этого мне один из моих солдат, бывший сапожник, сам вызвался сшить мне сапоги из плащ-палатки. Он их пошил, и мне потом из-за них все завидовали, потому что они были очень легкие. В общем, найти меня не составляло никакого труда, хотя я своего старшину на всякий случай предупредил, чтобы он распряг коней, и всем говорил, что мы никуда не ездили.
Но утром меня разбудили, потому что на батарею приехал сам командир полка с адъютантом. Я вышел к ним, а комполка мне и говорит: "Да, опозорил ты меня. Снимай погоны, снаряжение и становись-ка к этой березке, я тебя расстреливать буду". А я спросонья ничего не понимаю: "За что?" Правда, его адъютант мне знаками показывал, что иди, мол, не бойся, не будет он тебя расстреливать. Я встал, отстегиваю это все. "Ты, курвай, - это было его любимое ругательство, что натворил? Я тебя как человека пригласил в гости, а ты не успел получить гвардейское звание, как уже позоришь его! Ты что за концерт заградчикам устроил? Вот для того чтобы ты нас больше не позорил, и не доводить дело до трибунала, я тебя разжалую. Ступай в первый стрелковый батальон и там узнаешь, что тебе дальше делать".
Что делать? Пошел я к тому комбату, Бухванов или Буханов была его фамилия, но он меня утешил: "Да брось ты расстраиваться! Он меня уже два раза разжаловал". И его слова меня несколько приободрили, потому что, несмотря на то, что этот комбат был очень боевой, и у него было даже два ордена "Боевого Красного Знамени", причем, еще старой модели, которые привинчивались, я видел, что у него с командиром полка очень напряженные отношения, и по видимому какие-то свои старые счеты. Даже при всех они могли начать выяснять отношения. Комполка ему, например, ставит какую-то задачу, а тот не согласен и начинают препираться. А как-то этот комбат, когда командир полка при всех начал на него кричать так ему прямо и сказал: "Ты что кричишь? Ты что самый смелый или самый храбрый? А то я ребятам расскажу, какой ты у нас смелый и храбрый". У него видно имелся в запасе какой-то козырь. В общем, интересные у них были отношения.
И этот комбат меня спрашивает: "Скажи лучше, у тебя деньги есть?" - "Да откуда?" - "Ну, хоть сколько-то есть?" - "Немного есть". - "Давай лучше в очко сыграем". И, конечно, обыграл меня. Мы с ним, кстати, потом в Москве на одной из встреч ветеранов нашей дивизии виделись, и смеялись, вспоминая эту историю.
Но потом приехал ПНШ-2 полка по разведке и говорит мне: "Командир полка дал такой приказ. Пойдешь в разведку, нам нужно срочно узнать, какие части стоят напротив нас. Даем тебе трех солдат, а четвертого возьмешь сам из этого батальона. И, кроме того, тебе будут приданы саперы". Оказывается, по приказу Гитлера против наших гвардейских частей немцы выставляли только эсэсовцев. "Если добудете язычка, то и погоны и должность все вернем, а нет, так не обессудь..". И дал мне на проведение разведки двое суток. Первые чтобы все разведать и подготовиться, а вторые на выполнение. И распорядился выдать нам сухой паек на два дня, но, конечно, без водки.
Когда пришли эти солдаты, то оказалось, что эти трое, украли консервы в ДОПе, а четвертый разгильдяй чем-то провинился перед командиром батальона.
Начали мы готовиться. Целые сутки наблюдали за передним краем и подобрали подходящее место. Саперы сделали нам два прохода и вечером мы вышли на ничейную полосу. Но когда мы еще только наблюдали за передним краем, то засекли одну вещь, которой и решили воспользоваться.
Немцы ведь постоянно освещали ракетами линию фронта. И мы засекли примерное место, откуда они запускали эти осветительные ракеты. Приползли туда и точно: немецкая землянка, а метрах в пятидесяти от нее окопчик, в котором была вертикально укреплена палка, с которой немцы и запускали эти ракеты. Выглядело это так: немец выбегал из землянки в окопчик, запускал ракету, заряжал, и сразу же бежал обратно в блиндаж, потому что пару дней шел сильный дождь, и так каждые десять минут. Мы лежали метрах в пятнадцати от этого окопчика и решили, что когда в очередной раз немец выбежит, то до того, как он запустит очередную ракету, мы захватим его.
Так и получилось. Главный из этих трех воров оглушил его прикладом автомата, но когда мы его потащили, то оказалось, что немец нам попался очень здоровый. К тому же шел дождь, и было очень скользко и тяжело его тащить. Но потом немец немножко пришел в себя, посмотрел, какая вокруг него мелкота и начал вырываться. Мы в него вцепились, кое-как удержали, но так продолжалось несколько раз. В общем, сам он не шел, нам приходилось его тащить, и намучились мы с ним здорово.
И тогда я допустил оплошность. Чтобы окончательно отбить у него охоту к побегу, я достал пистолет, чтобы пригрозить ему, но случайно выстрелил, и прострелил ему стопу. Но мы его тут же перевязали, и нам казалось, что он неопасно ранен, потому что дальше он пошел уже сам, только хромал. А в это время немцы уже подняли тревогу, поднялась сильная стрельба, но дело в том, что мы успели дотащить его до оврага, прямо на задницах скатились туда, и там оказались в относительной безопасности.
В общем, кое-как мы его дотащили, сдали на КП полка и легли спать. А утром ПНШ по разведке говорит мне: "Эх ты. Можно было бы тебя, конечно, и к награде представить, если бы этот язык действительно был язык". Оказывается, что этот немец прямо во время допроса умер... От этой раны в стопу, у него то ли заражение крови пошло, то ли что-то еще, но он вроде бы и рассказать особо ничего не успел. Правда, по его документам удалось установить номер части, и, действительно, оказалось, что это был эсэсовец, да я и сам это успел понять по его форме. И хоть это была не совсем удачная разведка, но после нее меня восстановили и в должности и в звании.
А потом мне еще передавали слова командира дивизии, когда кто-то заикнулся, чтобы поощрить меня за эту разведку. Но он просто не знал, что я пошел в эту разведку только потому что проштрафился, и сказал примерно так: "Нас ведь на смех поднимут, если узнают, что у меня командиры батарей ходят в разведку".
А так, если бы я не проштрафился, то в разведку, конечно, сам не попросился. В разведку вообще мало кто решится добровольно пойти. Но я то прекрасно понимал, что если не выполню это задание, то пойду под суд. Так что особой альтернативы у меня не было...
Причем, у нас ведь тогда два месяца опытные разведчики не могли добыть языка, а мы вот смогли. Но нам что очень сильно помогло? Непогода, ведь несколько суток подряд лил сильный дождь, и видимо у немцев несколько притупилась бдительность.
А вам с разведчиками не приходилось сталкиваться? Многие ветераны рассказывают, что им дозволялись некоторые вольности.
Два раза я поддерживал огнем полковых разведчиков, когда они ходили в разведку. Мы заранее договаривались, что в случае их обнаружения, я должен буду открыть по немцам ураганный огонь. Поэтому я должен был заранее пристрелять цели. Помню, что в первый раз они принесли двух своих раненых, а во второй у них был один убитый.
А наших дивизионных разведчиков я вообще ни разу не видел. Правда, я слышал, что они ходили даже за линию фронта, но подробностей их работы не знал. Но даже по поведению наших полковых разведчиков чувствовалось, что они находятся на особом положении. Вели они себя несколько иначе, чем остальные солдаты, чувствовалась некая самоуверенность. Но я считаю, что это от командования зависит, если разведчиков балуют, то они и ведут себя достаточно вольно.
Вы упомянули, что один из ваших солдат доставил вам много неприятностей под Сталинградом.
Да, там произошел один неприятный эпизод. Между нами и немцами находилось много брошенных немецких машин с провиантом. И немцы голодали, но не могли к ним подобраться, потому что их обстреливали мы, а мы не могли, потому что нас обстреливали они. Но, правда, мы в отличие от немцев и не особенно нуждались.
И вот ко мне в батарею прямо из училища прибыл младший лейтенант, который до этого не воевал. Он стал командовать взводом, в котором служил тот самый солдат, который увлекался сбором трофеев. Как они между собой договорились, я не знаю, но в одну ночь они вместе вылезли на нейтральную полосу и забрались в одну из машин. Нашли там консервы, и даже водку, и давай пировать. И все бы ничего, но вот когда они закурили, то немцы их обнаружили и открыли шквальный огонь. Этого младшего лейтенанта убило, но, правда, этот солдат его оттуда притащил обратно.
И мне потом пришлось оправдываться и отчитываться за смерть этого лейтенанта. Потому что на самом деле там было очень строго с этим, и буквально за каждого человека нужно было отчитываться, по разным документам. Конечно, в такой ситуации мне пришлось сказать, что он погиб во время боевой операции. А того трофейщика я покрыл, правда, влепил ему двое суток гауптвахты. Посадили его в картофельную яму, а потом я смотрю, он там просто блаженствует, и даже надсмехается над остальными солдатами. Говорил часовому: "Вот ты стоишь, дрожишь, а я сейчас разожгу немецкие журналы и погреюсь". Я как такое дело увидел, подумал: "Ну что это за наказание?", и отменил ему гауптвахту.
А вообще солдаты увлекались трофеями?
Нет. Ну, могли, конечно, часы, например, взять, или оружие. Трофейного оружия, например, у нас не имел только ленивый. Вот я, например, последний трофейный пистолет, сдал уже только после войны, когда работал в Молдавии. Это был небольшой "Маузер", но очень красивый, никелированный, и главное - память, ведь я его нашел в Сталинграде в том же подвале, где арестовали Паулюса.
Дело в том, что когда после войны меня направили на работу в Молдавию, то я очень удивился, что здесь была очень спокойная обстановка. Прямо курорт по сравнению со Свердловской областью. Я когда увидел сводку, то сильно удивился. Ведь у нас только по одному Свердловску в год было 22 000 преступлений только по линии Уголовного розыска, а тут всего полторы тысячи... Убийств по всей Молдавии 100-104 в год, а там тысячи... Разве это можно было сравнить?!
К тому же у меня на родине находится очень много лагерей, а значит и побеги, преступления. Поэтому там у нас оружие считалось предметом первой необходимости. Ведь даже если в тайге вдруг встречаешь человека, то ни в коем случае не расслабляйся, и не показывай, что ты ему обрадовался. Присмотрись к нему вначале, понаблюдай незаметно из-за дерева, определи кто он такой. Хорошо если охотник, а если беглец, то ему и одежда нужна и документы, а то и питание...
Я помню, у меня был такой случай. Когда в 1953 году по случаю смерти Сталина Берия устроил массовую амнистию, то на свободе оказалось очень большое количество заключенных. Как раз в то время в Краснотурьинске я расследовал нераскрытое убийство и как-то возвращался домой в Свердловск. Я был в гражданском, и когда решил перекурить, вышел в тамбур. А до этого я еще обратил внимание на то, что в вагоне ехало много освобожденных.
За мной в тамбур вышли два молодчика, попросили закурить, и я им дал. Но тут они меня так схватили за руки, что я ничего не мог сделать. И у меня тогда промелькнула мысль, что если они у меня найдут пистолет и отберут его... Но на мое счастье в этот момент в тамбур вышел проводник, они меня сразу отпустили, и я шагнул за ним в вагон. Через проводника я сразу вызвал двух милиционеров, которые сопровождали каждый состав, и этих двух, которые хотели меня ограбить арестовали.
А, возвращаясь к трофейной теме, я вам расскажу такой случай, из-за которого меня потом одно время часто подначивали. Мои солдаты всегда получали сапоги, но в один раз вдруг выдали ботинки с обмотками, и ребята забастовали: "Мы не пехота, не будем в ботинках ходить". А это было как раз после Курской дуги. Тяжелые бои прошли, и мы быстро двигались вперед, почти не останавливаясь. И в одном месте оказалось столько перебитых немцев, что все мои солдаты поснимали с них для себя сапоги. Я даже технику подглядел, которой их научила трофейная команда. Между ног для упора вставлялась палка, и одновременно сдирали сапоги с трупа.
Так потом я прямо не знал, куда деваться от этого позора. Например, как-то мы двигались походной колонной, и вдруг меня догоняет один из знакомых офицеров: "Ты не чувствуешь трупного запаха?" - "Вроде нет". - "А вот ты знаешь, я как мимо твоей батареи прохожу, так сразу чувствую", вроде как от этих немецких сапог. Но вообще, немецкие сапоги мы почти не брали, и вот почему. Я обратил внимание на то, что почти у всех наших солдат был высокий подъем ноги, а у немцев почему-то почти все сапоги были рассчитаны на низкий подъем, и именно поэтому они нам и не подходили.
Когда под Сталинградом мы захватили немецкий аэродром, то на складе нашли большой запас шикарных хромовых сапог. Но сколько я их там не перемерил, и даже на размер больше, но ни одна пара мне так и не подошла. Одеть-то я их еще как-то мог, но уж очень сильно они жали в подъеме.
Но не было суеверий, что нехорошо брать вещи с убитых?
Да я особо и не помню, чтобы с убитых что-то брали кроме документов, оружия и часов. Вот еще помню, что некоторые солдаты имели трофейные портсигары, но где они их добывали, я даже не знаю.
А из одежды ничего не брали?
Однажды со мной произошел такой случай. Я когда только прибыл с курсов в полк под Сталинград, то недели две был не у дел, потому что свободного места на моей должности не было. И такой это был тяжелый период, что даже сейчас неприятно его вспоминать. Ну, представьте себе: мороз дикий, ты не занят, и только привязан к кухне, болтаешься за ней, да еще ходишь, просишь валенки и теплое обмундирование, потому что мерз я просто страшно. Я же вам рассказывал, что во время нашей остановки в Саратове успел продать почти все свое зимнее обмундирование, и из теплой одежды у меня оставались только перчатки и зимняя шапка. Причем она была не обычная ушанка, а снайперская, белого цвета, видно других тогда на складе не оказалось. А так я был в обычной хэбэ гимнастерке и простой шинели, так что мерз просто немилосердно. В общем, очень тяжелое положение.
Но я был не один, а с младшим лейтенантом, который оказался в таком же положении, что и я. Помню, что когда нам приходилось спать в снегу, то мы с ним будили друг друга каждые пять-десять минут, чтобы не замерзнуть. Как-то в одном месте остановились переночевать в какой-то постройке, кое-как сидя пристроились, поспали, а утром оказалось, что это немецкая уборная... Но зима ведь была суровая, все замерзло, поэтому даже никаких запахов не было.
И вот как раз в этот период, когда наш полк передислоцировался, то мы вдвоем с ним как обычно шли за обозом. Но это же степь, и помимо того, что и так очень холодно, там ведь еще сильный, пронизывающий ветер, в общем кошмар... А этот парень тоже сильно мерз, и вдруг он увидел, что на снегу валяется ничейный какой-то малахай, такой немецкий головной убор со специальными наушниками от мороза. Он его подобрал, одел и говорит мне: "Вот сейчас у меня уши больше мерзнуть не будут". Но только мы отошли от того места, где он подобрал эту шапку, буквально метров на пятьсот, как вдруг из тридцатьчетверки, которая стояла метрах в пятистах от нас, очередь, пуля ему попала в шею, и он валится замертво... И я даже не знаю, почему из танка дали очередь. Может, танкисты по силуэту подумали, что это немец? Первая мысль у меня, конечно, была пойти к этим танкистам и разобраться, а потом я подумал: "А какой дурак даст себя обвинять в таком деле? Он скорее и тебя самого прикончит..".
А вообще часто приходилось попадать под огонь своих?
Если не считать того случая, когда нас обстреляли при переправе через Дон у Богучара, то лично мне под огонь нашей артиллерии или авиации попадать не приходилось. Зато мне самому однажды довелось стрелять по своим. Как-то на Украине наша разведка доложила, что село перед нами занято немцами. А так как я поддерживал огнем батальон, то его командир попросил меня перед их атакой, провести небольшую артподготовку.
Минут двадцать моя батарея вела огонь по этому селу и вдруг я вижу, что ко мне идет наш командир полка: "Ты куда стреляешь?!" - "Командир батальона попросил поддержать огнем". - "Ты же по своим лупишь, это соседний батальон уже вошел в село!" И действительно, оказалось, что мы стреляли по соседнему батальону, но нам повезло, потому что от нашего огня только ранило осколком заместителя комбата, а убитых не было, видно они вовремя вышли из под огня. Но это был единственный такой случай. И я не считаю, что это обычное для войны дело. Например, у нас это считалось крайней степенью непрофессионализма, и кроме презрения и возмущения ничего не вызывало.
Боеприпасов всегда хватало?
Надо сказать, что одна из вещей, которая меня просто угнетала на войне - это была вечная нехватка боеприпасов. Вернее даже не нехватка, а постоянное ограничение в использовании. Тут мне сразу вспоминается, что когда в том бою у Герцовки я вызвал огонь на себя, то на линии как раз оказался командир полка, и, услышав это, он грубо обругал меня: "Ты что, курвай, двух вшивых немцев испугался, - это у него была такая любимая присказка, - и хочешь на них весь боекомплект истратить? А потом тебе стрелять нечем будет". Я даже опешил тогда, высказать мне такой упрек, не зная обстановки...
Но, правда, потом когда ему доложили о том, что это был за бой, ведь у обер-лейтенанта, который на меня прыгнул, нашли документы, по которым было видно, какие у немцев были силы и задачи, то он меня похлопал по плечу: "Молодец!"
А вообще, обычно боеприпасов хватало, хотя когда обозы отставали, то возникал, конечно, дефицит. Например, когда мы наступали от Орла, то нечем было кормить ни людей, ни лошадей, и какие уж тут боеприпасы. Ну, или в окружении.
Но на фронте ведь ситуация менялась очень быстро, поэтому рассуждать из-за чего так получалось, не зная полной картины нельзя. Вот меня, например, всегда удивляли писатели, которые сами воевали в окопах, а берутся описывать или рассуждать о целях операции с позиции командования. Что, например, Жуков устлал нашими телами полевропы. Но ведь всем известно, что у наступающих потери больше в соотношении три к одному. Война без потерь не бывает, а если будешь хныкать и лить слезы над каждым убитым, то никогда не выиграешь.
Но тогда я хочу вам задать один из важнейших вопросов нашего проекта. У вас не было или нет ощущения, что мы воевали с неоправданно высокими потерями? Что у нас людей не жалели?
(Моментально) Никогда! Нет, никогда! Вот сколько я ни воевал, и сколько всего мне пришлось увидеть, но у меня такого ощущения никогда не было. Конечно, потери были, но то, что я лично видел, по-моему, цена, которую мы платили, всегда соответствовала тем результатам, которых достигали.
Но надо ведь еще понимать, что бывали разные случаи. Вот, например, как погиб наш командир полка? Помню, я тогда еще подумал: "Вот ведь и жил как сумасброд, и погиб так же..".
Это происходило в период нашего наступления после Курской дуги. Мы только-только заняли позиции, у меня даже еще НП не было, и я как раз в ровике устанавливал стереотрубу. И вдруг с удивлением вижу, что в нашу сторону во весь рост идут командир полка, за ним начальник артиллерии полка, ПНШ - 2, комендант штаба полка, в общем, человек семь всего, наверное. И я когда это все увидел, то мне аж не по себе стало. Потому что там нам постоянно досаждал снайпер, а накануне был вообще такой эпизод.
Тогда у меня ординарцем был один бывший моряк, как раз тот, с которым я тогда устроил "концерт" заградчикам. Он принес мне поесть, осмотрелся, и вдруг сел на бруствер спиной к немцам и говорит: "Да у вас тут тихо, а то все пугали". А тогда действительно стояла непривычная для передовой тишина, и только вдалеке ездили немецкие бронемашины". И после этих слов, захрапев, вдруг повалился навзничь... Снайпер его снял...
И после этого я вдруг вижу, что наш командир полка, правда, я потом понял, что все они были подвыпившие, идет в полный рост. И я еще в недоумении его спросил: "Товарищ подполковник, вы куда?" - "Ааа, такой сякой. Трех паршивых фрицев боитесь", и пошел вперед, через нашу траншею прямо в сторону немцев... Но я же им крикнул: "Там же немцы!" Но нет, он все равно пошел на нейтральную полосу в полный рост, а за ним и все остальные. И на нейтралке их всех из пулемета и положили... Правда, я потом после войны на одной из встреч видел начальника артиллерии полка, который тогда с ними тоже был. И он мне рассказал, что его тогда ранило, а вот все остальные погибли...
А их никак нельзя было остановить?
А как их остановишь, если они старше тебя по званию? К тому же помните, в том эпизоде, когда я стрелял по своим, то именно он же мне и сказал, что там наши. Так что мало ли, может быть ему известно больше чем мне? Но ведь я же ему кричал, а он только махнул рукой, пошел вперед, и погиб ни за что...
И хотя в целом наш командир полка воевал неплохо, ничего не могу сказать, но, по правде сказать, о его самодурстве у нас буквально легенды ходили. Еще до войны, когда наша дивизия только формировалась где-то в Прибалтике, он служил командиром полковой школы, а ставший впоследствии командиром нашей дивизии Сиваков тогда служил командиром учебной роты. Так потом между ними была, чуть ли не открытая вражда, потому что Сиваков вырос до командира дивизии, а этот командовал только полком, и сильно ревновал. И где-то в марте 43-го, уже при мне это было, комдив еще с какими-то генералами приехали ко мне на батарею, а я как обычно находился на своем НП. И когда комдив захотел вызвать меня с передовой, то комполка ему возразил: "Нет, пусть он лучше на НП остается", т.е. даже в таких мелочах старался как-то его "укусить". Мне об этом потом мой старшина рассказывал.
А потом был еще такой случай, о котором мне рассказали в штабе полка. Комдиву понравился один конь из нашего полка, и он попросил прислать его себе. Так наш комполка, что сделал. Собрал всех лошадей, что были в полку, приказал связать их хвостами, и отправил весь этот табун в штаб дивизии, мол, пусть сам выбирает... Так что самодуров хватало, конечно. Но вот чтобы людей откровенно гробили зря, я такого ни разу не видел. Вот вы мне, кстати, давали читать интервью Гольбрайха Е.А., где он много рассказывает о штрафниках, и я вдруг вспомнил такую историю на эту тему.
Мне самому с "штрафниками" сталкиваться не приходилось, но однажды мне довелось поддерживать огнем разведку боем, которую они проводили. Это было числа 2-го-3-го июля 1943 года, т.е. буквально накануне начала боев на Курской дуге.
Вначале я провел небольшую артподготовку, и часов в 10 утра они, а их было человек сто двадцать, пошли в атаку. Поднялась стрельба, и вдруг в бинокль я увидел такую картину: прямо на поле боя выехали немецкие грузовики, из которых начала выгружаться пехота. Причем все немцы были по пояс голые, здоровые, загорелые, и спустились в долину навстречу нашим штрафникам. И как мне потом сказали, что из этой штрафной роты не осталось в живых никого...
Но я думаю, что это все-таки не так, потому что в том бою взяли в плен трех или четырех эсэсовцев, а значит, их кто-то же должен был захватить и притащить. Просто самого боя я не видел, потому что он был в низинке, вне поля моего зрения. А моя батарея вела отсекающий огонь, чтобы к немцам не подошло подкрепление.
И оказалось, что это были эсэсовцы, которых буквально накануне перебросили на Курскую дугу из Нормандии, поэтому они и были такие загорелые. Причем, один из этих немцев потом на допросе прямо с восторгом рассказывал, что больше всего симпатию у них вызвал один младший лейтенант, который схватил противотанковое ружье, и как дубиной лупил им направо и налево, пока его не убили...
Но я к чему рассказал этот случай? Тут трудно, например, сказать, что все эти штрафники погибли зря, ведь удалось выяснить, что немцы перебросили на наш участок новые части. К тому же и эсэсовцы из этой долины тоже не вышли...
А вам не приходилось отправлять своих солдат в штрафную роту?
Нет, ни разу такого не было, и пополнения из штрафников я тоже ни разу не получал. Хотя надо сказать, что 175-я стрелковая дивизия, в которой я служил в трибунале, большей частью формировалась как раз из освобожденных заключенных.
Помню, как во время формирования дивизии в Тюмени, председатель трибунала поручил мне посмотреть, можно ли с этими новобранцами провести в беседу. И когда я вошел в казармы, а они еще даже не были обмундированы, то создавалось полное впечатление, что это самые настоящие заключенные. По манере общения, поведения, по всему.
Но уже к 7 ноября их было просто не узнать, уже чувствовалось, что они прошли курс обучения и стали настоящими солдатами. Как уж их набирали в армию, я не знаю, но ведь тогда большое количество заключенных сидело за всякие незначительные преступления. Вот, наверное, из числа таких и призвали.
И еще у меня был один случай, который мне самому показался совсем уж неправдоподобным. Когда я лежал в госпитале, то нас в палате было четверо лежачих, поэтому для нас персонально решили дать небольшой концерт силами местной самодеятельности. И вот тогда я помню, что меня очень удивил один из этих артистов. Совсем молодой парень, на вид ему было лет двадцать, а уже майор да еще с орденом "Ленина". Я помню, что еще тогда у меня появились некоторые сомнения. Я стал расспрашивать тех, кто дольше меня находился в этом госпитале, и мне рассказали, что он якобы командовал штрафной ротой, а там звания присваивают вне очереди и щедро награждают.
И когда я уже готовился к выписке, то вдруг во дворе увидел его. Он сидел в простом солдатском обмундировании, ботинках, обмотках, и я спросил медсестру, что случилось. И она мне рассказала, что на самом деле он вовсе никакой не майор, а сержант, но присвоил себе чужие документы, и за это его направляют в штрафную роту.
Но я знаю, что в штрафных подразделениях их командиры в бой с ними не ходили. Например, во время той разведки боем мне прислали одного из этих штрафников, артиллерийского полковника, и именно он должен был корректировать наш огонь. А командир этой роты сидел у меня на НП, а в самом бою штрафниками командовал кто-то из них самих. И, наверное, это оправданно. Потому что если со штрафниками в бой направлять и их командиров, то получается, что их как бы тоже наказывают.
К тому же нужно хорошо понимать, что было главным стержнем в мотивации штрафников. Что после боя с них снимут судимость и вернут им доброе имя. Ведь, например, когда меня хотели разжаловать, то я из-за чего больше всего переживал? Что если я погибну, то, что скажут моим родственникам? Что он такой сякой... Поэтому почему люди очень боялись попасть в плен и готовы были сражаться до последнего, и даже покончить с собой? Потому что плен - это позор, к тому же родственники помимо позора могли подвергнуться еще и репрессиям - это был тоже очень весомый фактор. Патриотизм, вера в победу, романтика - это все, конечно, хорошо, и так оно на самом деле и было. Мы готовы были умереть ради спасения Родины, но и фактор страха не учитывать тоже нельзя...
Но это принципиальный вопрос. В таком случае получается, что можно и оправдать непримиримую сталинскую позицию по отношению к пленным. Тогда получается, что многие наши люди так самоотверженно сражались только лишь из-за страха? Например, какое у вас отношение к знаменитому приказу №223 "ни шагу назад"?
"Приказ №223" я считаю, оказался переломным и сыграл огромную положительную роль. Например, вы можете представить мое психологическое состояние, когда я чуть ли не единственный из нашей дивизии вышел из окружения, и понимал, что почти все остальные погибли?.. Когда сами командиры говорят о том, что выходите поодиночке, потому что нет ни боеприпасов, ни питания, ни техники... Конечно, в тот момент мы были деморализованы. И тут вдруг вышел такой приказ. Так что я считаю, что он появился своевременно и сыграл огромную положительную роль, потому что люди стали понимать, что кроме нас Родину отстоять некому.
А в отношении плена... Скажу не рисуясь, мне это вообще чуждо, но я бы точно не сдался. Поверьте, таких моментов у меня было немало, особенно в окружении, но я для себя такую возможность исключал просто категорически. Ведь тогда позор - это было не просто слово. Я, например, до сих пор хорошо помню, как нас провожали в армию. Собирались родные, друзья и напутствовали нас: "Служи честно, мы все на тебя надеемся..". И все это нас, действительно, очень настраивало. Поэтому когда человек оказывался в такой ситуации, что ему надо было выбирать: позор, унижения, но жизнь в плену, или почетная смерть, то многие делали сознательный выбор в пользу смерти.
Но в отношении тех наших людей, что попали в плен, я и тогда считал, и сейчас считаю, что в каждом случае нужно было разбираться отдельно. Выяснять, как попал, при каких обстоятельствах, как проявил себя в плену. У меня ведь был один одноклассник, который прошел плен, и на примере его трагической истории я видел всю несправедливость такого общего отношения к нашим пленным.
Его звали Анвар Нигматулин, до войны он был студентом политехничекого института, но в начале войны его призвали в армию, он попал на фронт, и уже летом 1941 года был ранен в живот и попал в плен. И когда я после ярославского госпиталя вернулся домой, то мы с приятелем пошли к нему в гости, и у нас состоялась очень тяжелая встреча... Он жил в какой-то халупе, и во время нашего разговора я заметил, что он очень грустный, и даже наше появление его не особо обрадовало. Но потом мы понемногу разговорились, он нам рассказал ужасные вещи, что ему довелось пережить в плену, а потом и говорит: "Вот я по вам вижу, что Родина вас наградила и относится к вам как к родным детям, зато ко мне отнеслась, как мачеха... Вы знаете, что мне каждую неделю приходится отмечаться в МГБ? А о том, что я в плену заработал чахотку и едва живу им вообще до лампочки... Ну, вы же меня знаете, разве я предатель? И потом у меня ведь два побега, и есть люди, которые могут это все подтвердить, но нет, там даже не хотят разбираться..". Он чуть не плакал, когда все это рассказывал... Эта печальная встреча оставила у меня на душе очень тяжелый осадок... А вскоре я узнал, что он умер...
А вам не приходилось видеть или слышать, чтобы кто-то из наших солдат добровольно сдался в плен?
У меня был ... один случай, и я до сих пор считаю, что взял тогда грех на душу... Уже когда после боев на Курской дуге мы воевали на Украине, то ко мне в батарею прислали пополнение - четырех курян. Двое из них были помоложе, а двое постарше, лет сорока пяти. И в одном из боев с ними получилось так.
Мы меняли огневую позицию и вдруг напоролись на немецкую бронемашину. Причем, мы ее видели, но вначале подумали, что это наша. Нам как раз в глаза светило солнце, поэтому опознавательных знаков мы не видели, зато видели, что прямо на бронемашине спокойно стоят солдаты, поэтому и решили, что она наша. Чуть ли не строем шли как раз в ее направлении, и когда до нее оставалось метров сто пятьдесят, вдруг по нам из нее застрочил пулемет... Мы бросились в рассыпную, но мой замполит и еще несколько человек были убиты.
А когда заняли новые позиции и уже готовились к участию в артподготовке, то тут ко мне приходит один из этих пожилых курян и говорит, что он эти места хорошо знает и вот там, в овраге, между нами и немцами, есть колодец. А тогда было очень жарко, и нам, действительно, очень была нужна вода. И я совершенно без задней мысли поручил им двоим сходить за водой. Но такая деталь, незадолго до этого, нам выдали белый материал на подворотнички. И тут ко мне прибегает старшина и говорит: "Какой к черту колодец? Они достали этот белый материал..".
Я тут же послал за ними вслед одного солдата, и он им передал мой приказ вернуться назад. Но один из них заявил: "Немцы - люди культурные, и ничего плохого нам не сделают", и они оба отказались вернуться... Тогда я приказал открыть по ним огонь, но они уже успели укрыться, и думаю, что все-таки успели перебежать к немцам...
И вот я себя до сих пор виню в том, что поручил задание непроверенным людям. Но, правда, больше у меня таких случаев и не было. И думаю, что если бы они не были в оккупации, то такого просто не случилось бы. Но они ведь по своим домам пережили оккупацию и потом даже рассказывали на батарее, что: "... немцы брали у нас продукты, но давали нам жить..".
А из-за этой истории у вас не возникло проблем с особым отделом?
Конечно, встал вопрос, что делать. Как их определить, ведь они же пропали... И я, почему говорю, что взял грех на душу? Потому что все-таки записал их как боевые потери. Но прежде, чем это сделать я долго думал, потому что прекрасно понимал, какие мне могут грозить неприятности, и только поэтому и решился на это.
А так, кто знает, как бы там закончилось? Смотря в какие руки попал бы... Как говорится, на войне как на войне... Но я как подумаю, а вдруг их семьи, или тем более они сами, сейчас получают военные пенсии...
А вы не боялись, что вас могут, что называется "заложить"?
Тогда я об этом и не думал. Ведь на передовой бесконечные опасности, не знаешь, будешь ты завтра живой или нет, так что такие вопросы решались без оглядки на чье-то мнение. К тому же меня все уважали, а если кто-то и докладывал, то это мой замполит, но он как раз в тот же день и погиб. А вот мой писарь, даже наоборот. Он был москвич, в годах уже, но очень хитрый мужик, поэтому боялся мне что-то прямо сказать или предложить, но уклончиво как-то дал понять, что, мол, затаскают.
У вас были напряженные отношения с вашим замполитом?
Не то, чтобы напряженные, но я всегда ожидал от него какого-то подвоха. Порой не успевал что-нибудь сделать или случайно о чем-то обмолвиться, как об этом уже становилось известно комиссару полка и он уже меня спрашивает: "Было ли такое?"
Например, у меня был такой случай. Из нового пополнения я набрал в батарею десять узбеков. А они же водку не пьют, и что было делать с их нормой? Ну, не выливать же, поэтому вполне естественно, что старшина начал собирать ее "на всякие непредвиденные расходы". Так мой замполит доложил комиссару полка, что я не выдаю узбекам водку, и собираю ее для себя. Хорошо, все прекрасно знали, что я спиртным не увлекался, и тут даже не могло быть никакого подозрения в злоупотреблении с моей стороны, поэтому эта история не получила никакого продолжения.
Но, правда, я насчет него особо и не беспокоился, потому что каких-то особо крупных просчетов не допускал. К тому же после моей работы в трибунале я прекрасно осознавал, о чем можно и о чем нельзя говорить, например. В этих вещах я был осторожен, потому что прекрасно знал, чем может обернуться, даже нечаянно оброненное слово.
Правда, все-таки был с ним у меня однажды не то, что конфликт, скорее размолвка. По национальности он был чуваш, и хотя я знал, что до войны он работал учителем в средней школе, но, честно говоря, проводить беседы с людьми он не особо умел, и поэтому солдаты над ним даже посмеивались между собой. У нас в батарее тогда было три члена партии: сам замполит, один старший сержант, секретарь парторганизации и еще один боец. Так вот этот старший сержант с людьми разговаривал гораздо доходчивее. Но, надо отдать ему должное этот мой замполит всегда старался быть с солдатами, чтобы как говорится "знать, чем дышит народ".
И сразу после завершения боев под Прохоровкой, когда я только вернулся на батарею после тяжелых боев, то попросил его заменить меня на НП. Я тогда просто смертельно устал: ведь эта бесконечная стрельба, дикое нервное напряжение, еды нет, в общем, просто смертельно устал. И, конечно, когда пришел на батарею, то хотел отдохнуть и выспаться. Но мой заместитель по строевой как назло оказался чем-то занят, поэтому я и попросил замполита: "Слушай, ты же мой заместитель, подежурь вместо меня на НП, а я хоть чуть-чуть посплю". Но он отказался: "Нет, я должен быть там, где люди". И вот после этого я его уже ни о чем и не просил. Правда, я потом когда думал об этом, то этот его отказ скорее относил на его боязнь не справиться, чем на личное отношение ко мне. Просто он и не особо разбирался, как нужно корректировать огонь.
Что бы я еще хотел сказать на эту тему. Вот вы мне дали почитать интервью Дегена И.Л., и меня в нем неприятно поразило насколько у него негативное отношение к комсоставу и в частности к политработникам. Да, политработники тоже бывали разные, и к некоторым, действительно, отношение было весьма неважное. Например, когда я служил в трибунале, то к начальнику политотдела нашей дивизии относились так себе. Ну, посудите сами. Каждое утро у него начиналось с прогулка верхом на лошади, потом завтрак, отдых, и только вечером проведет какой-нибудь инструктаж... Поэтому, конечно, авторитетом он у людей не пользовался.
Но как достойно, например, показал себя мой новый замполит, который пришел на смену погибшему. Где-то на Украине немцы остановили наше продвижение, и пока шла перегруппировка сил, пришлось становиться в оборону. А потом нам дали задание - взять небольшую деревеньку, причем, мне приказали, вынести вперед два миномета и начать оттуда вести огонь. Помню, что я еще очень удивился, но мне объяснили, что на самом деле этот удар отвлекающий, а нам нужно имитировать наступление здесь, и обязательно вызвать ответный удар немцев.
Мы эту деревеньку взяли, пробыли там целый день, и только под вечер немцы пошли в массированную атаку. И тут появляется какой-то мужик, причем в гражданской одежде, и начинает мне указывать цели, по которым надо бить. Я удивился: "А вы кто такой?" - "Я ваш новый замполит". И потом я его как-то спросил, почему он, пренебрегая опасностью, был среди нас. - "Потому что я должен был сразу показать, где опасно - там должен быть политработник!" Поэтому я не могу согласиться, что почти все политработники были плохими. К тому же я считаю, что чрезвычайно важно понимать одну вещь - как бы мы могли победить немцев, если у нас все командиры и политработники были такие плохие, как это иногда сейчас описывают?
В газетном очерке про вас, я прочитал об эпизоде, когда весь личный состав вашей батареи в один день подал заявление на вступление в Партию. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Это было в первые дни битвы на Курской дуге. Как сейчас помню, что тогда мы стояли на территории совхоза "Комсомолец". С нашего участка сняли пехоту для проведения важной операции в другом месте, а мне приказали обеспечить оборону этого участка силами моей батареи и продержаться без пехоты сутки... И тогда всем нам стало ясно, что бой предстоит страшный, и остаться в живых посчастливится немногим...
Учитывая такой сложный момент, политработники начали проводить активную работу. А у меня в батарее тогда было пятьдесят один человек, но из них всего три коммуниста. И тут надо отдать должное тому самому замполиту Чамееву, он провел среди людей беседы, ночью организовал собрание, на котором весь личный состав батареи, в том числе и я, подал заявления в Партию. Но это не были в прямом смысле заявления, а люди просто вставали и говорили: "Если я погибну, прошу считать меня коммунистом".
Кроме того, на этом собрании единогласно было принято постановление: "Будем сражаться до последнего, по-сталинградски, выполним приказ "Ни шагу назад". И я считаю, что это собрание сыграло свою большую положительную роль, действительно здорово мобилизовало людей, и чувствовался душевный подъем, что не подведем, и будем биться до конца...
Мы тогда два дня подряд почти непрерывно вели бой, отбили, если не ошибаюсь, девять атак пьяных эсэсовцев, но в живых на батарее осталось всего семнадцать человек... Под конец на каждый миномет оставалось всего по две мины... А уже потом, в промежутке между боями, тем кто остался в живых, в том числе и мне, вручили партийные билеты. Вот так я вступил в Партию.
Я уже понял, что вы по-прежнему остаетесь убежденным коммунистом. Но вы ведь многое знали и тогда, и еще больше узнали в наше время, при этом вы лично видели много несправедливости, так как вам удалось сохранить прежние убеждения?
Тут дело даже не в том, что я буквально с пеленок воспитывался с этими идеалами, и поэтому мне сейчас нелегко с ними расстаться. Нет. Просто я считаю, что в любом обществе есть как положительные, так и отрицательные стороны. И принципиальный вопрос при этом чего больше - положительного или отрицательного. И вот сравнивая нынешнее положение с тем, что было, для меня ответ очевиден...
Ваше отношение к Сталину сейчас не изменилось?
Конечно, сейчас, когда стало известно о массовых репрессиях, то многое уже можно оценивать совсем по-другому. И хотя мы уже о многих вещах и сами догадывались, но все-таки общей картины мы не имели. Я, например, только со временем, уже после разоблачения на XX-м съезде Партии начал понимать, что это был за человек.
Но я до сих пор хорошо помню, как тяжело мы переживали смерть Сталина. И хотя мой отец, например, Ленина ставил значительно выше Сталина, но даже он был настолько расстроен, что долго не мог прийти в себя. А у нас в аппарате Свердловского обкома некоторые сотрудники даже плакали, настолько тяжело переживали. Вообще, у всего нашего народа в те дни было такое подавленное настроение: "Как же мы будем дальше без него?" И про себя я тоже могу сказать, что очень сильно переживал его смерть...
А его роль в войне... Я ведь когда приехал в Тюмень на формирование дивизии, то лично видел, как когда на месте возведения цехов будущих заводов были готовы только стены, а продукция для фронта уже выпускалась... Под открытым небом, снег шел, а продукция уже шла, хотя работали в основном только женщины и дети... И я уверен, что если бы не эта суровая требовательность со стороны Сталина, а он в этом отношении, действительно, был беспощаден, то вряд ли бы была обеспечена победа над врагом...
Но я что бы еще хотел добавить. В свое время я работал прокурором по надзору за следствием в КГБ, и мне пришлось рассматривать архивные дела по реабилитации людей. И рассматривая эти архивные дела, что мне особенно бросилось в глаза и всегда удивляло тогда, и удивляет сейчас. Насколько легко люди в Молдавии переходили из одной партии в другую, как, например, сейчас чиновники легко меняют свои взгляды. У нас на Урале в этом отношении все было совсем по-другому...
Причем я считаю, что обязательно нужно сказать, что даже тех, кого репрессировали и сослали, например, в Сибирь, то ведь им создали максимум условий, чтобы они там нормально жили и могли учиться и развиваться. Я, например, еще на Урале видел много таких людей. Например, я помню, как в наш Свердловский обком пришел ректор политехнического института и поднял вопрос: "На новый атомный факультет поступают одни западники, в основном евреи..". Так о какой же дискриминации тут может идти речь? Почему об этом сейчас никто не говорит?
А на войне вам не приходилось видеть никого из наших крупных военноначальников?
Во время войны мне однажды довелось присутствовать на офицерском собрании, на котором перед нами выступил командующий нашим 1-м Прибалтийским Фронтом Баграмян. По этому собранию у меня о нем осталось приятное впечатление, он постарался как-то душевно, с юмором с нами общаться, рассказал вначале какую-то смешную историю, и только потом перешел непосредственно к задачам. К тому же у него был очень сильный кавказский акцент, который добавлял ему определенное обаяние. И больше я во время войны никого из больших военноначальников не видел. Но уже после войны мне довелось по работе познакомиться с Георгием Константиновичем Жуковым и близко видеть Хрущева.
Расскажите об этом, пожалуйста.
Когда в начале 50-х годов Жуков командовал Уральским военным округом, меня отозвали работать из прокуратуры в отдел административных органов Свердловского обкома партии. И вот в этот период мне по работе пришлось с ним неоднократно встречаться, причем, я его видел в совершенно разных ипостасях.
Например, как-то мне надо было подписать у первого секретаря Недосекина какой-то документ, и в его приемной я увидел, что там сидит Жуков. Я оставил секретарю бумагу, но так как документ был срочный, то я зашел за ним часа через полтора, и смотрю, что Жуков все сидит...
А потом у нас на партийном собрании коммунисты прямо спросили у Недосекина: "Почему такое неуважительное отношение к Жукову?" И он ответил: "Сам звонил, - и многозначительно посмотрел наверх, и сказал, чтобы лучше службу знал, подержи его в приемной..".
Потом я, помню, как-то зашел к первому секретарю, чтобы получить задание, а у него в кабинете сидел Жуков. Мы поздоровались с ним за руку, и первый секретарь мне сказал: "Георгий Константинович проведет совещание с директорами военных заводов, а ты поприсутствуешь, ну и придется выступить". В тот раз я сидел с ним в президиуме, и надо сказать, что на том совещании он проявил себя как предупредительный, причем очень вежливый, и невероятно обаятельный человек.
И потом еще был один случай. Как-то мне надо было срочно подготовить и отправить одну шифровку. Но для того чтобы ее подписать у первого секретаря мне пришлось поехать на совещание военного совета округа. И когда я туда приехал, то увидел уже совершенно другого Жукова: чрезвычайно жесткого и требовательного.
А потом в разговоре с начальником управления кадров округа, я узнал о таком случае. Командиры полков должны были сдавать то ли зачет, то ли экзамен, находясь в роли командира дивизии. Выехали они на местность, и Жуков, который присутствовал на этом экзамене, решил лично проэкзаменовать одного офицера. Но тот или растерялся или что, но допустил грубую ошибку, не учел, что там была горная местность, и определил место расположения КП дивизии там, где из-за рельефа возникли бы сложности с радиосвязью. И Жуков за это обругал его матом, и тут же уехал. А потом я видел личное дело этого командира, и там Жуков своей рукой написал примерно следующее: "Соответствует должности командира роты. Понизить до батальонного командира".
И был еще один случай, который тоже произвел на меня большое впечатление. Как-то в городе Серов произошла массовая драка между солдатами и местной молодежью, с обеих сторон в ней участвовало несколько сот человек. По поручению первого секретаря я позвонил Жукову и спросил его, известно ли ему об этом инциденте, и какие меры приняты. И Георгий Константинович мне ответил: "Через час мой адъютант доложит вам". И, действительно, через полчаса перезвонил полковник, и доложил о принятых мерах. Так что совершенно по-разному он себя проявлял.
А в последний раз я его видел при таких обстоятельствах. Присутствуя на первомайской демонстрации я обратил внимание на то, что люди кричали "Слава" только Жукову, настолько он был в народе популярен. И ведь недаром потом, ревнуя к его популярности, Сталин запретил Жукову принимать любые парады.
А на фронте вы знали, кто у вас был, допустим, командиром вашей Армии, Фронтом? А то многие ветераны рассказывают, что не знали.
Конечно, знал, я же все-таки офицер. Но каких-то подробностей о наших командующих мы не знали, поэтому не обсуждали их, и уж тем более не подвергали сомнению их авторитет.
Вы упомянули, что вам довелось видеть и Хрущева.
В моем представлении Хрущев по своим данным вообще не должен был стать первым секретарем ЦК КПСС. Однажды он прилетел в Свердловск, и мне довелось участвовать в его встрече на аэродроме. Там собралось много людей, и он выступил с небольшой речью. И во время нее, например, ткнул пальцем на одного милиционера из оцепления и говорит окружающим: "Что, неужели мы без этих дармоедов паспорта себе не выдадим или хулигана не поймаем?" Ну, разве по таким речам нельзя составить общее впечатление? Должен признаться, что впечатление от той встречи у меня осталось просто удручающее.
Вернемся к вопросу об особистах. Вам не приходилось видеть их "работу"? Например, большинство ветеранов рассказывают, что им пришлось хоть раз присутствовать при показательных расстрелах.
Мне два раза пришлось присутствовать при показательном расстреле, и оба этих случая я отношу к тем эпизодам, которые у меня даже на войне вызвали большой внутренний протест.
В первый раз это было, когда я еще служил в трибунале 175-й дивизии. Ночью случилась какая-то тревога, то ли разведка немцев действовала, то ли что-то еще, но в общем одна стрелковая рота покинула свои позиции. Естественно, стали искать виновника, кто поднял панику. В конце концов, указали на одного парня, но даже тогда было понятно, что его просто назначили стрелочником, ведь все побежали и он тоже. К тому же я помню, выяснилось, что он был комсомолец, но... Зачитали приговор, там это было очень быстро... И вот когда он уже стоял перед автоматчиками, то вдруг крикнул: "Да здравствует Сталин, да здравствует Родина!" Но его все равно расстреляли... А мы все стояли вокруг, и такое это тяжелое произвело на всех впечатление, что люди даже не стеснялись в выражениях...
А второй раз это было на Курской дуге. Где-то в районе Полтавы мы двигались походной колонной и вдруг нас остановили, и построили в каре. Смотрим, выносят на носилках парня лет восемнадцати, щупленького такого. Оказывается, он был самострел, и прострелил себе ногу. Испугался видно войны. И его прямо лежачего, он ведь ни встать, ни повернуться не мог, громко стонал, смершевец в затылок и застрелил... Но и этот случай на всех нас тоже произвел не воспитательное, а скорее отрицательное впечатление... Даже жалость к нему была, хоть он и был самострел.
А вы когда такие картины видели, не примеривали эту "работу" на себя? Ведь вам же тоже предлагали стать особистом.
Нет, я к себе их роль не примеривал, даже и не думал об этом. Причем, от общения с ними у меня оставалось впечатление, что это вроде нормальные, общительные ребята, но единственное, что меня в них всегда настораживало - это какая-то зацикленность постоянно подозревать. Чувствовалось, что у них есть такая черта - подозревать всех, и даже друг друга. Есть у них такое, даже из-за какой-то мелочи могут привязаться.
Кстати, я, наверное, все же был у них на учете, потому что в самом начале 44-го оперуполномоченный по нашему полку предложил мне пойти к ним на курсы. Я знаю, что тогда к ним пошел наш начальник разведки, но я решил отказаться. Рассказал ему свою эпопею с окружением, и что мне осточертели все эти секретные документы, и я больше не хочу с ними связываться. Я ведь никогда и не скрывал, что был в окружении, рассказывал эту историю, и ко мне никогда никаких вопросов не было.
А насчет особистов я вам еще так скажу. После окончания юридического института я полгода проработал помошником прокурора одного из районов Свердловска, показал себя неплохо, в одном непростом деле проявил принципиальность, поэтому вскоре меня назначили прокурором Нижне-Салдинского района. И вот представьте себе, что даже в то тяжелое время в прокуратуре вообще не было людей без высшего юридического образования. А даже если кого-нибудь и принимали на работу без оного, то он обязательно должен был учиться на заочном или вечернем отделении юридического факультета, т.е. требования к сотрудникам прокуратуры предъявлялись очень серьезные.
И вдруг через какое-то время я совершенно случайно узнаю, что начальник нашего районного отдела МГБ, оказывается, имеет всего шесть классов образования. И я помню, что как-то раз во время беседы с прокурором области Яцковским мы эту тему вдруг затронули, мол, как же так, от нас требуют высшего образования, а у них всего-то... То он так хитро улыбнулся и обронил такую фразу: "А может быть так и надо... Зато они исполнители хорошие". Это я к чему веду? Что может быть чекисты, потому так слепо и выполняли приказы, что не имели нормального образования...
Но многие из ветеранов признают, что без таких жестоких мер, мы бы и не остановили немцев.
Я же вам рассказывал, что два раза побывал в окружении. Но мы в обоих случаях, о чем больше всего думали - не попасть в плен! Сопротивляться всеми силами, но в плен не сдаваться. И все так думали, а не только я, потому что все прекрасно знали, что плен - это не почет.
А как было, например, под Ахтыркой, когда мы поняли, что оказались в окружении? То, что вы думаете? Никакой растерянности ничего, скорее даже наоборот, все только еще больше мобилизовались. Сразу организовали круговую оборону, тут же связались по рации с частью, которая была позади нас, согласовали сигналы для перехода передовой. А в это время немцы успели даже проволочное заграждение установить, но мы договорились, что бросаем на него шинели и плащ-палатки. Так и сделали. Немцев там было, правда, совсем немного и мы даже устроили с ними небольшую рукопашную, но все равно вырвались оттуда. А почему? Потому что мы не растерялись, хотя нас было совсем немного, человек пятьдесят всего. Но к тому времени мы уже, правда, научились воевать. Так что я думаю, тут больше от людей зависит, а не от "жестких" мер....
А был какой-то момент, с которого вы почувствовали себя опытным воином?
Только после тяжелейших боев на Курской дуге я стал чувствовать себя уверенно, настоящим командиром.
Вот вы упомянули о рукопашной. Сколько раз за всю войну вам пришлось в них участвовать?
Это был единственный раз, если не считать того случая, когда в бою под Герцовкой на меня бросился тот обер-лейтенант.
Но вы почувствовали разницу? Многие ветераны отмечают, что убивать из огнестрельного оружия или холодным это совсем разные вещи. Вот вы смогли бы, допустим, убить немца ножом или лопаткой?
Не знаю, потому что в том бою я не могу сказать, что с кем-то персонально сцепился, просто отмахивался кулаками и стрелял из пистолета... Но думаю, что смог бы. Свободно мог бы, потому что в такой ситуации человек по-настоящему звереет... Не знаю как другие, но лично я в том бою действовал словно у меня отключили сознание, лишь на одних инстинктах...
И когда мы потом опять взяли эту местность и пошли посмотреть на это поле, через которое вырывались, то увидели там обрывки снаряжения, ремней, противогазов... В общем, кто чем мог, тем и дрались.
А в 1942 году под Харьковым на рассвете я не видел, а слышал, как морская пехота брала одно село. Никакого "Ура", один сплошной мат... Вот, кстати, сколько я ни воевал, "Ура" я слышал, чтобы кричали, а вот чтобы "За Родину, за Сталина" ни разу. Вообще, человек во время боя просто звереет. Ему уже нет дела ни до какой политики, ни до чего, одно только чувство самосохранения...
Но вы можете описать, что вы чувствовали в бою? Какое чувство превалировало?
Я считал, что это просто как работа. Работа, которую нужно выполнить как можно лучше. Но работа тяжелая, которая зачастую требует сверхнапряжения.
И в связи с этим у меня тогда еще такой вопрос. Почти все кто воевал, очень высоко оценивают немцев как солдат, но с другой стороны сами же и отмечают, что по силе духа они нам уступали, и, например, в рукопашные схватки старались не вступать. На мой взгляд, в этом есть какое-то противоречие.
Я считаю, что немцы 41-го-42-х годов это были просто величайшие солдаты. И, честно говоря, тогда у меня даже иногда появлялись сомнения, как это мы сможем победить таких солдат... Например, я помню, что на меня большое впечатление произвел такой случай.
Еще когда в 1942 году я служил в трибунале, то как-то раз мне пришлось присутствовать при допросе сбитого немецкого летчика. Ему задавали вопросы, но он все время молчал, и ничего не говорил. Тогда ему переводчик говорит: "Это же серьезное дело, вас же могут и расстрелять". А он в ответ только процедил пренебрежительно: "Мне наплевать на смерть..".
А уже в конце 42-го я видел, что это уже совершенно не те немцы... Было видно, что призваны из запаса, жалкий вид, сопливые, дайте ему поесть... Как-то раз на допросе пленный немец начал мне показывать, что он ранен в ноги, и слезливо просил отправить его в госпиталь. Видел я много пленных и на Курской дуге, но это уже были совершенно не те немцы. Но вот я сейчас вспоминаю и сам поражаюсь. Вроде бы шла страшная война, мы, действительно, ненавидели немцев, а от ненависти до зарождения какой-то симпатии был едва ли не шаг.
Например, я же вам рассказывал про случай, когда видел, как штрафной батальон пошел в разведку боем, а им навстречу вышли эсэсовцы. Так мне потом пришлось присутствовать при допросе одного из плененных эсэсовцев, и он едва ли не с восторгом рассказывал, как в этой рукопашной их крушил противотанковым ружьем какой-то младший лейтенант. И этот эсэсовец произвел на меня впечатление просто очень общительного человека, и все. Я даже подумал, что с ним вполне можно как с приятелем запросто поговорить.
И даже такой эпизод вам расскажу. Уже где-то в Белоруссии пехота взяла в плен пять немцев, но их передали мне, потому что у них совершенно негде было их держать. А там как раз была такая обстановка, что я не мог отправить их в тыл. Поэтому недели две они прожили в расположении моего учебного дивизиона. И что вы думаете? Они с моими солдатами вроде даже как подружились, и никто к ним никакой агрессии не проявлял... А уж как они были рады тому, что война для них уже закончилась.
Вот в то время я к ним внимательно и присмотрелся. Было заметно, что они и ментально и где-то даже в физическом плане отличаются от наших людей. Но мне что, особенно бросилось в глаза? Как раз в это время у меня на батарее жил немец, военнопленный, из организации "Новая Германия", который по громкоговорителю агитировал немецких солдат сдаваться в плен. Причем, он, получал такой же офицерский паек с кухни штаба дивизии, как и я.
И вот я тогда видел такую картину, которая, думаю, для нас была бы невозможной. Сидит за столом этот пропагандист с двумя пленными, вместе обедают и разговаривали между собой на немецком. Кстати, я тогда еще спросил этого переводчика, почему пленные очень плохо понимают мой немецкий, ведь в школе я его вроде неплохо изучал. А он мне объяснил, что я говорю слишком книжным языком, к тому же у них много разных диалектов.
Я даже помню, что один из этих пленных был шахтер, другой бухгалтер, а третий был театральным художником и до войны жил в Буэнос-Айросе. Но когда началась тотальная мобилизация, его призвали в армию и отправили на фронт. И вот сидят, значит, эти два интеллигента, разговаривают, но что мне бросилось в глаза. Пленным как солдатам принесли котелок солдатской каши, а пропагандисту пюре и даже пару сосисок. И что бы сделал наш человек в такой ситуации? Предложил бы угостить, а этот нет. И я потом даже спросил его, он неплохо знал русский язык: "Ну, как же так. Вы постоянно встречаетесь, разговариваете, а ты ему даже ничего не предложил". Он улыбнулся и говорит: "Эээ, капитан, вы просто не знаете немцев. Пусть хоть и маленькое, но зато свое".
Так что наша ненависть к немцам на пленных вообще не переносилась. Я помню только один такой случай. Как-то мимо нас вели колонну немецких пленных, и один из немцев в соломенных лаптях все время отставал. Конвоиру видно уже надоело его подгонять, поэтому он снял ремень, отхлестал немца, и тот побежал догонять своих.
Правда, под Сталинградом однажды я слышал, про такой случай, что по какой-то причине пленные немцы восстали, Колонна немцев рассыпалась, похватали оружие, там его валялось до черта, и начали расстреливать конвоиров.
Но еще что я хочу сказать про немцев. Что эта их знаменитая формальность их же самих часто и подводила. Всю войну я обращал внимание, что тактика у них была, и оставалась довольно однообразной и весьма шаблонной. Вначале шла артодготовка с авиационными налетами, и только потом пехота идет в атаку. Правда, если в первое время меня эта их стройная система где-то даже подкупала, то потом мы поняли, что если сумеем сохранить силы, а для этого во время артподготовки отходили во вторую линию окопов, или просто прятались кто куда, то вполне сможем отбить их атаки.
Особенно эту систему я под Харьковом хорошо наблюдал. Вначале артподготовка с авианалетом, затем они переносятся на наши тылы, чтобы мы не могли подтянуть резервы, и так из раза в раз. Но, изучив эту манеру, мы поняли, что, зная, что они будут делать дальше, вполне возможно предпринять какие-то контрмеры.
Или, например, в том же бою у Герцовки. Я, почему вдруг почувствовал опасность? Потому что немцы неожиданно перестали освещать нейтралку, а они ведь всегда ее освещали. И это значит что? Или они отошли, или же наоборот, готовят нам какую-то неприятность... И должен сказать, что за все время на фронте я как-то не помню, чтобы они в этом плане меня хоть раз удивили. Нет, все было достаточно предсказуемо и однообразно. Я помню, что даже удивился тому, как точно эту их прямолинейность подметил и описал Лев Толстой в "Войне и мире". Зато в этом отношении я всегда приятно удивлялся находчивости и смекалке наших солдат.
Но в целом, я считаю, что как солдаты они были хорошо подготовлены во всех смыслах. А как у них было налажено снабжение! Ведь у каждого солдата было все необходимое, начиная от масленки, и вплоть до презервативов.
И особенно бросалось в глаза, как они строили и оборудовали себе жилые помещения. Например, под Сталинградом в одном из оврагов, в землянке я видел, даже не поверите ... рояль. Не пианино, а именно рояль! Наверное, это все же была генеральская землянка, но все же. Двухкомнатная, стенки отделаны березовыми планочками, причем с корой, и мебель: трюмо, шкаф, обычная койка и рояль. В общем, все как в хорошей городской квартире.
Но все-таки надо отметить, что в своей массе вражеские войска были достаточно разнородны. Ну, как можно, допустим, сравнивать немцев 41-го-42-го годов, или эсэсовцев с теми же итальянцами? В том случае, когда я вам рассказывал, что мы заняли круговую оборону, и думали, что напротив нас стоят власовцы, а это оказались итальянцы. И они потом так драпанули, что мы их только через 60 километров догнали... Но с другой стороны взять тех же финнов. И ведь голодали же, но вот все равно не сдавались.
А как вы можете оценить немцев как артиллеристов?
Я помню такую деталь, что немцы в отличие от нас всегда стреляли залпами. Но ведь между залпами есть какой-то промежуток времени, когда можно сориентироваться и что-то предпринять. Зато у нас была практика вести беглый огонь, для них это было странно, поэтому они часто просто терялись. И мне кажется, что наш метод лучше.
А себя как минометчика можете оценить?
Ну, это другие люди должны меня оценивать, а не я сам. Но я могу вам сказать, что командиры батальонов нашего полка для усиления всегда просили прислать именно мою батарею, особенно после того случая, когда мы заняли круговую оборону и отстояли брошенные пехотой позиции. Но мне, конечно, значительно помогало мое образование, и то, что я хорошо знал тригонометрию, в артиллерии это очень важно. Приведу вам простой пример.
До меня батареей командовал старший лейтенант с шестью классами образования. Так, когда я принял батарею, то солдаты даже не умели правильно строить веер. Устанавливали веху, шагами мерили, и вносили поправки в прицел. Поэтому первое с чего я начал, и бойцы это приняли с восторгом, научил их строить веер через основное орудие и прицел. И когда я всех наводчиков этому обучил, то они мне сказали: "Это же так просто, оказывается". Я понимал важность образования, и именно поэтому всегда старался подбирать себе пополнение из молодых ребят с образованием. Например, на Курской дуге нам прислали много узбеков, но мне удалось выбрать человек десять, восемь из которых были молодые ребята, окончившие десять классов. Все они были грамотные ребята, которыми я был доволен. Недаром говорят, что войну выиграла молодежь и десятиклассники, в частности, все-таки образование очень многое значит.
А так я никогда не считал, что делаю, что-то особенное. В передовой траншее мне оборудовали НП, проводили туда связь, и я почти всегда там находился и корректировал огонь батареи. Причем, если телефонисты у меня часто менялись чтобы отдохнуть, то меня лишь изредка подменял командир взвода управления.
И фактически я все время занимался своей повседневной, рутинной работой - засечь цель у немцев и накрыть ее. Как-то, например, у села Дмитриевка на нашем участке объявился немецкий снайпер, и просто житья нам не давал. Где-то неделю мы его выслеживали, потому что он очень хорошо маскировался, но потом все же проявил неосторожность. На солнце у него блеснула оптика, а мы как раз наблюдали за этим местом, потому что так и предполагали, что он примерно там прячется. Я пристрелял одинокое дерево метров в двухстах от этого места, довернул прицел, и тремя минами мы накрыли этого снайпера. И больше по нам уже никто не стрелял...
А вообще немецкие снайперы часто досаждали?
Постоянно надо было быть начеку. А одно время у меня на пилотке была такая специальная вуаль защитного цвета с прорезями для глаз.
В должности командира минометной батареи вы провоевали больше года. Разве вас не должны были повысить?
Мне несколько раз предлагали стать командиром стрелкового батальона. Но если в своем деле я хорошо разбирался, и чувствовал себя как рыба в воде, то вы, например, только представьте себе структуру стрелкового батальона: роты, различные вспомогательные подразделения, обозы, санчасть, в общем, целый организм, чтобы управлять которым, нужно иметь определенную подготовку. Правда, мне ПНШ командира полка всякий раз говорил: "По ходу разберешься и научишься". Но я каждый раз отказывался, потому что ясно понимал, что кроме этих курсов у меня другой подготовки не было. А вот когда из-за больших потерь мне предложили организовать этот учебный дивизион, то я с радостью согласился.
Вот вы упомянули, что у вас в батарее служили узбеки. Вообще с людьми, каких национальностей вам довелось воевать вместе?
Самыми разными, но в основном у меня были славяне: русские, москвичей помню, украинцы были. Кстати, на Курской дуге у меня была усиленная батарея - шесть минометов, а так обычно четыре. Но тогда в полку были настолько большие потери, поэтому всех кого можно забрали в пехоту, пожилых забрали в обоз, причем, я помню, что с такой неохотой расставался с этими пожилыми солдатами. А с одним расчетом вышло так.
Шел дождь, и во время беглого огня заряжающий бросил в ствол мину и когда нагнулся за второй, то плащ-палаткой нечаянно накрыл ствол, а взрыватель же у мины очень чувствительный, поэтому мина при вылете из него разорвалась... Весь расчет, конечно, погиб. Я потом ходил смотреть, так ствол миномета был как цветок, так его при взрыве раскурочило... Но больше у нас таких случаев не было.
И вот тогда мне как раз и прислали этих узбеков. Я сразу постарался их почаще задействовать, например, в кочующем расчете, чтобы они побыстрее втянулись в боевую работу. Конечно, они сильно выделялись, на общем фоне. Ведь, например, из них было двое пожилых, так те даже по-русски почти не разговаривали.
Некоторые ветераны рассказывают, что к нацменам было несколько пренебрежительное отношение.
Нет, ни отрицательным, ни пренебрежительным я бы его не назвал, а скорее особым. Но это ведь и вполне понятно, потому что люди совсем другой культуры, зачастую малограмотные, плохо владели русским языком.
А евреев, например, вы встречали на фронте?
Насчет евреев я вам так скажу. Также как и к людям всех других национальностей, я всегда относился к ним с большим уважением, но до войны на Урале их было очень мало, фактически единицы. Например, у нас во всей школе было всего несколько евреев, и никто и никогда их не выделял. Они были точно такие же ребята, как и все остальные. Так же дрались, так же проказничали, в общем, были как все.
Кстати, в детстве у меня был такой забавный случай. Когда моего отца перевели на работу из Кунгура в Свердловск, то естественно, что нас он взял с собой. А мой дядя работал на "Уралмаше", и когда мы только переехали, то он сразу провел со мной примерно такую беседу: "Ты здесь смотри, у нас тут ребята совсем не такие как у вас в Кунгуре. Тут надо держать ухо востро". В общем, настропалил он меня порядочно, поэтому я уже был настороже.
И в первый же день в новой школе, когда на уроке физкультуры я встал в строй, и тут ко мне подходит самый большой мальчик в классе, как потом оказалось еврей, Шнеерсон, кажется, была его фамилия: "Ты не по росту встал", и вытолкнул меня в конец строя. А я смотрю, что вроде встал как раз по росту. Учительница нас еще спросила: "Ну, что разобрались?", и на этом все и закончилось. А на перемене Ефроим, но мы его называли Фромка, подходит ко мне: "Ты что?" В смысле того, что не слушаюсь его, и дал мне тумака. И я тогда подумал: "Ну, если так пойдет и дальше, то меня тут совсем затюкают". И когда он на перемене с другими ребятами курил в туалете, я разбежался, и с разбега дал ему головой в живот. Он согнулся, заплакал. Но об этом стало известно директору школы, отца вызвали и сказали ему: "Ваш сын - самый хулиганистый мальчик в школе"... Вот так курьезно произошло мое знакомство с евреями.
Зато за все время на фронте, сколько я не был, но на передовой евреев почти не встречал. Да и вообще, в армии за все время войны я их видел едва ли не считанные разы. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить все эти случаи.
Первый раз это было еще в 175-й дивизии, там у нас заместителем командира по материальному обеспечению был майор Тульчинский. И когда наша дивизия при отступлении оказалась в тяжелейшем положении, то ему поручили увести в тыл остатки дивизионного транспорта. Но он его так увел, фактически потерялся, что мы его еле-еле догнали только в Урюпинске. И когда мы туда все-таки добрались, то увидели, как он там себя вел: постоянные пьянки, оргии с женщинами, вольное распоряжение с продуктами...
Потом помню, как-то получили с пополнением одного еврея, который оказался сапожником. Правда, прослужил он у меня в батарее совсем недолго, был такой услужливый, как раз он мне и пошил те отличные сапоги из плащ-палатки, причем сам вызвался, я его и не просил. И вдруг я получил приказ откомандировать его в штаб полка. Как оказалось, его назначили ординарцем у начфина нашего полка, который тоже был евреем.
Был еще один памятный случай где-то за Орлом. Мы тогда быстро наступали, двигались только по ночам, но обозы сильно отстали, никакого питания нет... Тогда в полевых кухнях пришлось готовить болтушку из воды с мукой... Изнемогли абсолютно все и люди, а лошади даже не могли тащить эти кухни...
И в одном месте нам устроили на час привал. Я зашел в дом, и встретился с одним парнем, с которым познакомился еще в Тюмени. Он тоже был еврей, и служил как раз на моем месте, т.е. был секретарем военного трибунала. И вы бы только видели, как он меня уговаривал перейти на работу в трибунал: "Вы же знаете нашу работу. Давайте мы это как-то устроим, а то вы тут так мучаетесь..".
Конечно, шансов на то чтобы выжить в трибунале было гораздо больше, все-таки это даже не второй, а третий эшелон. И я сейчас вспоминаю, что там люди боялись только бомбежки, фактически других опасностей для жизни там и не было. Но я для себя такое развитие событий исключал просто категорически. Как это я, боевой офицер, командир подразделения, вдруг перейду на тыловую службу? Ведь я же еще когда служил в трибунале, то очень тяготился этим, но если бы не военное время, и не приказной порядок, то по собственной инициативе я бы там никогда служить не стал. А эта писанина, которую я просто ненавидел...
И был еще один памятный для меня случай. Когда я из окружения попал в штаб Фронта в Сталинград, то возле вокзала ко мне буквально прицепился пожилой еврей, как оказалось фотограф. Мне было совсем не до фотографирования, но он так меня по-доброму уговаривал, что я все-таки решился сфотографироваться. "Ты же понимаешь лейтенант, что ты пошлешь фотографию своей маме, и как она обрадуется". И я до сих пор ему благодарен, что он меня тогда уговорил, вот эта фотография.
Тут на обороте есть какая-то надпись.
Я когда ее послал родителям, подписал:
"Папе от крошки,
Папа меня очень любил, и всегда называл меня "крошка". Даже когда я вернулся после последнего ранения, то он перед сном меня целовал и говорил: "Спи крошка".
Маме от ослопины долгой".
А мама меня из-за моей любви к гимнастике называла "ослопина долгая", ну типа жердь.
"Спросит мама:
Где ты подевался,
Где изволил пропадать?
Я за Родину сражался,
Защищал тебя родная мать".
А это слова песни из какого-то довоенного фильма.
И вот, кстати, вспомнил еще один случай. Начальником полевой кассы в 175-й дивизии тоже был еврей. Причем, внешне он был абсолютной копией еврея с немецкой листовки. На этих листовках вверху был изображен Сталин, а под ним такой ярко выраженный тип еврея, и надпись: "Сталин управляет, а жиды загребают". Небольшого роста, с таким носом, ну просто копия.
Так, когда мне поручили вынести пакет из окружения, то он попросился в мою группу. Конечно, он понимал, что в плен ему никак нельзя, поэтому и попросился. Но ему было уже лет сорок пять, нашего темпа он не выдерживал, и едва ли не на первом привале он от нас отстал: "Ребята, извините, но я с вами больше не смогу идти". А с нами пошел еще один старик с Урала, вестовой из штаба. Стариком я его называю, потому что ему было лет пятьдесят, наверное, и я знал, что в Гражданскую он воевал в партизанах, а на фронт попросился добровольцем, и вот он решил остаться с этим евреем. Я помню, как при прощании он говорил: "Видимо нам придется переодеться в гражданское". И я еще подумал тогда: "Ты то может и сойдешь за местного, а этому-то куда? Трудно ему будет". Мы попрощались, ушли, и больше я их никогда не видел, и об их судьбе ничего не знаю.
Но что я еще хочу сказать по этому вопросу. Я когда вернулся из госпиталя домой в Свердловск, то просто поразился, насколько нехорошие разговоры ходили про евреев. Ведь до войны на Урале даже и намека никакого на антисемитизм не было, никто и никогда о них плохо не отзывался, и тут вдруг такое...
Я стал спрашивать, отчего так произошло, и мне рассказали, что еще в начале войны в город приехало много эвакуированных евреев. Причем, у них откуда-то были большие деньги и из-за них сразу взлетели цены. Кроме того, они не просто приехали, а приехали уже на конкретные предприятия с назначениями на высокие должности, и это вызвало недовольство. Народ стал на них коситься, а потом пошли эти разговоры, что евреи тянут друг друга, откуда у них такие деньги, почему они заняли все руководящие должности?..
Например, на фабрику, где работал мой отец, приехал один еврей из Харькова, и его сразу назначили главным механиком фабрики, хотя у него не было даже специального образования, а ведь это инженерная должность. И это ведь еще при том, что лучших специалистов по брони оставили работать на фабрике, и тут вдруг совершенно незаслуженно над ними назначили кого-то этих приезжих... Конечно, это вызывало совершенно определенные эмоции...
И потом мне родители рассказали еще одну неприятную историю. Коммерческим директором на обувной фабрике отца был еврей Золотовицкий. А я его хорошо помнил, потому что он был член партии, политрук запаса, и еще когда я проходил в военкомате медкомиссию для поступления в училище, то он перед нами прямо такую зажигательную речь произнес.
И вдруг я узнаю, что он сумел получить бронь, и на фронт не пошел. Но мало этого. Во время войны он с директором фабрики Касавиным, тоже, кстати, евреем, организовали группу, которая путем махинаций наживались на армейских поставках, и, не стесняясь людей, построил себе новый дом...
Но их, правда, все-таки посадили, и Касавин даже умер в тюрьме, а вот этого самого Золотовицкого я потом случайно встретил на трамвайной остановке, как раз сразу после того, как он освободился. Он меня узнал, протянул руку: "Поздравляю с возвращением". Но я на его приветствие не ответил, так вы бы посмотрели, какой у него был вид...
А вообще когда я вернулся с фронта, то мне бросилось в глаза, что многие люди за годы войны заметно нажились... Уж не знаю, как, но видно сумели найти тепленькое местечко... Только тогда я начал понимать, что творилось в тылу. Точно говорят, кому война, а кому мать родна...
А вот, допустим, все ваши одноклассники воевали? Или может быть, кто-то нашел себе тепленькое местечко?
У нас класс был небольшой, и почти все ребята воевали, кроме двоих. У одного из них отец был ректором горного института, а другой, Прохоров, не знаю почему, хотя знаю, что он потом служил военным атташе в одной из скандинавских стран. И я помню, как в нашем разговоре сестра Анвара Нигматулина с такой обидой об этом сказала: "У нас все мальчики кто погиб, кто поранен, а эти даже не воевали..". Но я судьбы всех наших ребят даже не знаю, лишь про некоторых точно знаю, что погибли, но не про всех, поэтому мне сложно говорить.
А вот на фронте вам приходилось видеть откровенные случаи трусости?
Приходилось, да еще как приходилось, но надо понимать, что трусость трусости рознь. Вот, например, на Курской дуге был такой эпизод.
Моя батарея стояла в каком-то овраге, перед нами предполье, засеянное подсолнечником, а дальше была опушка леса, по ней дорога, по которой курсировали немецкие бронемашины. Это было, кстати, именно на том участке, где так нелепо погиб наш командир полка. И меня предупредили, что перед нами пехоту сняли для замены, на их место пришлют какую-то часть с Дальнего Востока, и только потом уже сменят нас.
Стоял жаркий день, и вдруг я слышу, в этом подсолнечнике началась ожесточенная перестрелка, а потом из него стали выбегать пехотинцы. А что такое солдаты побежали? Значит, противник нас может легко опрокинуть, и тогда как минимум мы потеряем материальную часть. И выбор в этом случае совсем небогатый, или немцы нас убьют, или свои расстреляют за трусость и бегство...
Прекрасно понимая это, я выскочил, выхватил пистолет, побежал им навстречу, и начал кричать: "Ложись, ложись". Они залегли, а я думаю, чего это они так сильно испугались, если там кроме бронемашин вдали никого нет? Отругал их и отправил обратно на исходные.
А вечером ко мне вдруг приходит от них подполковник и начинает извиняться: "Извините, мы просто первый день на фронте, и еще не сориентировались. Но я уверен, что этот урок непременно пойдет нам на пользу, и больше такого не повторится. Спасибо вам". Оказалось, что он был вместе с солдатами, и это над его головой я стрелял и кричал, ложись... Вот пожалуйста вам пример трусости. Но разве тут поднимется рука кинуть камень в их огород? Нет, потому что понятно, что люди совсем без опыта впервые оказались на передовой. Правда, это был единственный раз за всю войну, когда мне пришлось так жестко приводить людей в чувство.
Но я вам хочу рассказать о случае, который наряду с эпизодом с той женщиной на хуторе, оказал на меня огромное впечатление и после которого я пересмотрел некоторые вещи.
Это был один из тяжелых боев на Курской дуге, и во время него у меня пропала связь. Причем, бой был настолько тяжелый и напряженный, что я до сих пор отлично помню свое ощущение, что к концу дня я был бы рад если бы меня ранило или убило... Ну, просто настолько уже были напряжены нервы, к тому же стояла сильная жара, питания нет... Наши окопы были на высотке, все подступы к которой простреливались немцами. Но к вечеру один боец с батареи ко мне все-таки прополз и принес мне котелок с едой. Я сел в ровик и с жадностью начал есть, а мой боец у меня над головой начал стрелять по немцам из трофейной винтовки. И вдруг я почувствовал сильный удар по голове, меня даже оглушило на какое-то время, но я еще успел подумать: "Ну, все, наконец-то ранило"... А когда пришел в себя, то понял в чем дело. Оказывается, этот солдат получил ранение в руку, и прикладом своей винтовки ударил меня по голове.
Так вот, возвращаясь к нашему случаю. Я послал своего связиста устранить обрыв, выждал минут пять, но так как связи все не было, и решил сам пойти найти обрыв и устранить его. Побежал по проводу, смотрю, а мой связист в воронке лежит... Я на него с криком, а он только растерянно смотрел на меня. Но мы с ним вместе нашли обрыв, устранили его, и дальше все прошло нормально.
А вечером я ему сказал примерно так: "Знаешь что, а я ведь тебя под трибунал должен отдать, ты ведь чуть операцию не сорвал". Он сидел с виноватым видом, и потом спрашивает: "Товарищ комбат, сколько вам лет?" - "Какое это имеет значение?" - "Нет, вы скажите". - "Двадцать четыре". - "А мне сорок шесть, и у меня трое детей. И вот на днях я получил письмо из дома. Жена продала последнюю козу, и пишет, что если проедим и эти деньги, то не знаю, чем придется кормить детей. Тут я, конечно, поступил неправильно, но я хочу вернуться домой живым..". И вы знаете, у меня всякая враждебность к нему как-то сразу пропала. Фактически этот связист преподал мне такой жизненный урок, после которого я совсем другими глазами стал смотреть на солдат, особенно пожилых. Узнавал у кого какая семья, в общем, сильно изменил свое отношение.
С одной стороны это, конечно, хорошо, но ведь с другой, наверное, так тяжелее командовать, ведь вам приходилось людей на опасные задания посылать.
Нет, в боевой обстановке, когда нужно срочно принимать решение, то на такие нюансы внимания просто нет времени обращать.
А этот солдат остался жив, не знаете?
Не знаю, потому что в один момент у меня забрали всех пожилых солдат в обоз.
А вот вас самого животное чувство страха никогда не захлестывало?
Насколько я помню, такое было всего два раза за всю войну. Первый раз, это когда меня в окружении вдруг внезапно атаковал немецкий истребитель, я вам уже рассказывал об этом. Тогда действительно, я в полной мере почувствовал, что такое чувство беспомощности и страх...
И был еще один раз, когда меня, действительно, прямо холодный пот прошиб. Об этом я вам тоже рассказывал, когда при выходе из окружения в одном доме долго не мог обуться. Помню, хозяйка украинка меня будит: "Молодший, нимцы". А я все еще никак от сна не отойду, к тому же никак не могу обуться, ведь все сырое, а она меня торопит... И вот когда нас тогда преследовали, то такой прямо панический страх был... Но я думаю, что оба этих раза я так "прочувствовал" из-за того, что это произошло уж как-то все слишком неожиданно для меня.
Но зато у меня был случай, когда уже я напугал немца. Когда под Ахтыркой мы попали в окружение, то в одном месте я вышел на дорогу, потому что надеялся, что мне все-таки дадут связь. Дорога проходила через лес, где никого вроде не было. Я зашел обратно в лес, и потом, кстати, удалось выяснить, что нас предал лесник. У него в подвале нашли телефон, по которому он передавал немцам наши координаты, но его особисты вычислили и арестовали. Так вот. Вышел я опять на дорогу, смотрю, а прямо на меня идет немец, причем здоровенный такой мужик. Но он тоже увидел меня, присел и даже закричал от страха. А я тоже немного растерялся, и пока рвал кобуру, она у меня была очень тугая, он успел убежать.
А было что-то такое, чего вы боялись больше смерти?
Как и многие больше смерти, я боялся плена и тяжелого ранения, вернее беспомощного состояния из-за ранения.
Многие ветераны рассказывают, что на фронте многие солдаты как-то предчувствуют, что их ранят или убьют. Вас лично такие предчувствия не посещали?
Думаю, что у человека все-таки есть интуиция на какие-то вещи. Вот я вам расскажу, например, как меня в последний раз ранило.
Где-то в районе Витебска мы готовились к наступлению. Двигались походной колонной, а стоял конец февраля, и по ночам было холодно, а я к тому же ехал верхом и сильно промерз. Приехали на место, где должны были располагаться, развернули палатку, и я лег у печки, чтобы хоть немного отогреться. Но в тот раз я хоть и чувствовал себя смертельно уставшим, но вот почему-то никак не мог заснуть. Почему-то думал, успели ли там мои бойцы развернуть наблюдательный пункт, проложить связь? Ворочался-ворочался, и, думаю, нет. Все-таки нужно пойти проверить, потому что утром должно было быть наступление, и моя батарея должна была участвовать в артподготовке.
Взял с собой ординарца, мы пошли на НП и вдруг с опушки леса, про которую разведчики нам сказали, что немцев там нет, по нам вдруг начал стрелять немецкий пулемет. Это, кстати, тоже к вопросу о неоправданных потерях. Ведь если бы я только знал, что на опушке есть немцы, то действовал бы совершенно по-другому. Но ведь разведчики сказали, что на опушке никого нет. Так что такие потери случались и по объективным причинам
В общем, моего ординарца ранило в бедро. Я с него стащил ватные штаны, кое-как рану перетянул, и как раз в этот момент меня и тюкнуло... Как потом мне рассказали это был бризантный снаряд, который разорвался прямо над нами, и осколок мне попал в левую верхнюю часть головы...
Но что интересно. Где-то в семидесятых годах у нас была встреча ветеранов дивизии в Москве. Мы сидели в каком-то ресторане, и в разговоре вдруг один человек упомянул мою фамилию и говорит: "Вот я бы хотел его найти, но говорят, что он погиб при прямом попадании в палатку". Я к нему подошел: "Вот вы упомянули мою фамилию, это я". - "Да как же так, мне сказали, что в палатке все погибли..". Вот так я узнал, что по счастливой случайности остался жив, хоть и был тяжело ранен. А все, кто оставались в палатке, человек пять или шесть, погибли при прямом попадании...
И я вам так скажу. Я был трижды ранен, и все три раза перед ранением я ощущал какое-то такое чувство сильного внутреннего беспокойства и беды, хотя вроде бы и ничем необъяснимого...
Но вот вы, например, верили, что останетесь живым, что вернетесь домой? Может, мечтали о том, чем займетесь после войны? Верили в судьбу, например, или в Бога?
Уверенности такой, конечно, у меня не было, но была надежда. И вот я когда иногда оцениваю весь мой путь, причем, не только на войне, а вообще по жизни, то у меня создается такое впечатление, что меня действительно как будто кто-то вел и охранял. Все-таки судьба, наверное, ведь сколько было разных случаев... Как, например, так удачно получилось, что у меня в руках тогда оказалась ракетница. Я ведь точно знаю, что в том положении я бы кобуру открыть не смог, она у меня была очень тугая, а так... Или взять, например, тот случай с шахматами. Мы же рядом совсем сидели, каких-то полметра, оба склонились над доской, но осколок достался ему, а не мне...
Вы этот случай не рассказывали.
Как-то я находился на своем НП на передовой, было затишье, поэтому мы с командиром роты прямо в окопе решили сыграть в шахматы. И хотя мы были с ним знакомы всего пару дней, но успели даже подружиться. Очень такой симпатичный парень был, то ли Силяков, то ли Силуков откуда-то из республики Марий-Эл.
Прямо там в окопе положили доску на ящик из под патронов, играем, и вдруг внезапный артналет, немцы такое часто практиковали, да и мы потом тоже. И этому парню осколком срезало верхнюю часть головы, причем, вся это масса мозга упала прямо на шахматную доску... С тех пор я в шахматы не играл ни разу, потому что когда вижу шахматную доску, то у меня перед глазами сразу всплывает эта ужасная картина...
Вообще я вам должен сказать, что дружба на войне это очень сиюминутная вещь. Особенно в пехоте, где век солдата совсем недолог, поэтому люди просто не успевали сильно подружиться. Но даже смерть близких тебе людей воспринималась совсем не как в мирное время, а просто как данность. Ведь когда почти каждый день видишь смерть людей, то острота переживаний заметно притупляется... И даже, например, когда, я убил того немецкого лейтенанта, то вначале как-то нехорошо это все воспринял, что мол это я причина его смерти... А потом это прошло, ведь кругом смерть...
Говорят, что многие солдаты на фронте пересмотрели свое отношение к религии.
Нет, в Бога я даже на фронте верить не стал. Причем, я даже не помню ни одного случая за всю войну, когда бы кто-то из солдат или офицеров как-то показывал свою набожность или хотя бы молился. Мы и не говорили об этом, все-таки нас воспитывали как атеистов. У меня и крестика не было, и я не верил во все эти вещи, хотя, конечно, был крещеный, просто семья у нас была не религиозная.
Единственное, что помню, в одном месте мы переночевали в одной хате, а когда утром уходили, то вышла хозяйка, женщина лет пятидесяти и перекрестила нас на прощание.
Нет, был еще один эпизод. Когда меня второй раз ранило, то нашу часть отправили грузиться на станции Котлубань, поэтому чтобы не отстать от своих, я решил остаться в батарее. Даже в санбате тогда не лежал, а долечивался прямо в пути. Каждый день в вагоне меня перевязывали, но когда выгрузились, меня все-таки отправили недели на две в Курский госпиталь. Тогда уже все таяло, у меня все бинты намокли, и температура подскочила до сорока градусов. Причем, до Курска я километров двенадцать прошел, держась за повозку, потому что в повозке были тифозные, и нельзя было в нее лечь.
В госпитале я сразу прилег, но какой-то молоденький врач меня разбудил, и начал меня стыдить за то, что у меня шапка повернулась боком... Измерили мне температуру - 40, потом еще раз измерили, уже двумя градусниками - опять 40. Не знаю, может у него какие-то подозрения насчет меня были.
А после госпиталя мне выдали назначение в другую часть, но я очень хотел вернуться именно в свою батарею, поэтому решил самостоятельно пробираться к своим. И вот тогда, в последнем месте, где мне пришлось ночевать, один старик мне начал рассказывать, что в священном писании сказано, что белый ворон победит черного ворона. А утром я проснулся, смотрю, наши ребята. Оказывается, в этом селе и стояла наша часть.
А вы не задумывались на фронте, когда закончится война? Чем после нее будете заниматься?
И разговоров таких не было, и даже не думали об этом. Может те, кто перешел границу, уже и начали задумываться об этом, но меня ранило, когда до победы было еще очень далеко. И о послевоенной жизни на фронте лично я, например, совсем не думал и не мечтал даже. Тогда все жили только войной.
Вот вы упомянули, что играли на передовой в шахматы, карты. А разве в карты, например, разрешалось играть?
А кто запретит? Причем, солдаты постоянно где-то доставали отличные немецкие карты и ими играли. Но играли не для того, чтобы выиграть, а просто, чтобы скоротать время. Вот, кстати, вспомнился еще один случай.
В Сталинграде мы оказались в подвале магазина, где был КП Паулюса, едва ли не в тот же день, когда он сдался в плен. Причем, солдаты тут же вскрыли сейфы, которые там были, и они оказались набитыми нашими советскими деньгами. И прямо тут же начали играть на них в карты. Что тут скажешь, славяне... Но вдруг раздался сильный взрыв, все все побросали и кинулись оттуда. Но я знаю, что мой старшина тогда все-таки успел прихватить там сколько-то тысяч и отправил их домой.
А как-то еще отдыхать удавалось? Может, музыканты у вас в батарее были?
Нет, музыкантов у меня ни разу не было. А когда говорят, что на передовую приезжали фронтовые бригады, то у меня это всегда вызывает улыбку. Вот сколько я не был на фронте, но ни разу и близко не видел ни одной бригады артистов, дальше КП дивизии они ни-ни.
За все время на фронте, я всего лишь один раз видел подобие концерта, это когда мы были на переформировке после тяжелейших боев на Курской дуге. Вот там, действительно, для нас устроили небольшой концерт. Помню, что тогда были какие-то сольные номера, и был один настоящий артист, который читал нам "Василия Теркина". Вот это был единственный раз за всю войну.
А кино я в войну впервые посмотрел уже только в Ярославском госпитале. Там специально для лежачих по палатам ходил киномеханик, и прямо на стенку показывал кино. Помню, что показывали нам тогда "Большой вальс".
Кстати, там, в палате нас было человек шесть, и один из раненых был корреспондентом "Комсомольской правды", майор, но фамилии его я уже не помню.
Многие ветераны отмечают, что едва ли не острее опасности боев, они переносили нехватку сна.
Помню, что когда мы ночами двигались на Белгород, то отсыпаться должны были днем. Но все-таки днем и сон совсем не тот, да и заботы разные. И вот, помню, что колонна идет, а солдаты прямо на ходу спят и храпят. И если вдруг неожиданно останавливались, то задние наскакивали на впереди идущих.
А перед последним ранением я спал, когда ехал верхом на лошади. Было холодно, а сидя на лошади особо не двигаешься, вот меня и приморило. Ну а так конечно, старались любую свободную минутку урвать, чтобы поспать. Я же вам рассказывал случай, когда с меня вдруг потребовали заполнить наградные листы, а я просто умирал, как хотел спать.
А письма домой вы часто писали?
Нет, писал я достаточно редко, примерно одно письмо в два-три месяца. Во-первых, молодой был, и не понимал как это важно для моих родителей, а, во-вторых, потому что и писать особо некогда было. Ведь бывало, что из-за напряженных боев я даже боевые донесения не мог вовремя отправить, а не то, что домой письма писать. Наша 6-я Гвардейская Армия считалась армией прорыва, поэтому мы без конца были в боях, и только на переформировании удавалось писать.
Иногда еще прямо на станциях к нам приходили девчонки и прямо в наш эшелон кидали письма, в которых предлагали переписываться. Я знал, что некоторые солдаты им писали, но я не писал.
А приходилось получать из тыла посылки?
Да, действительно, из тыла иногда приходили посылки от незнакомых людей. Обычно там были какие-то теплые вещи: носки, перчатки, нехитрое угощение. Но я в дележе этих подарков участия не принимал, считал, что эти знаки внимания для солдат значительно важнее.
Вы упомянули про девушек, и у меня тогда такой вопрос. Какое отношение было к девушкам фронтовичкам? Говорят, что к ППЖ, например, было не очень хорошее отношение. Вообще, насколько было распространено это явление?
Думаю, что это зависело от культуры командира подразделения. Некоторые офицеры вели себя в этом отношении достойно, а некоторые нет. Вот тот же самый наш командир полка, например, и в этом отношении был такой... Мог схватить едва ли не любую девушку, и повести ее к себе.
Но, действительно, все знали, что, например, многие врачи и санинструкторы сожительствовали с командирами и многих по беременности отправили в тыл. Ну, посмеивались, конечно, когда узнавали, что у нее есть с кем-то отношения. А про некоторых и разговоры ходили всякие, такая, мол, сякая. Но большинство не осуждало, люди понимали, что это ведь жизнь.
К тому же учтите, на передовой ведь ежедневная опасность, и не знаешь, будешь ли ты жив завтра... Поэтому люди как могли старались урвать от жизни побольше радости. Помню, как-то в одном полуразрушенном сарае я видел два трупа. Девушка и парень накрылись плащ-палаткой, и так вместе и погибли во время артналета...
К тому же надо учесть, что на передовой, в основном молодежь была, поэтому и симпатии, конечно, проявлялись. Помню, однажды во время переформирования мы получили пополнение, и командир полка решил организовать смотр. Устроили построение, произнесли какое-то напутствие, а когда пошли на передовую, то буквально каждую роту провожали по несколько девушек из медсанбата, даже за руки с солдатами держались. Все-таки человек остается человеком даже на войне.
И еще вдруг вспомнился единственный в своем роде случай. Как-то наша дивизионная разведка провела удачный поиск, и им в качестве поощрения разрешили пойти в увольнение к девушкам в полевую прачечную.
А по поводу негативного к ним отношения я вам могу рассказать такой случай. У меня была одна знакомая связистка. Она была совсем молодая девушка, 24-го года, сталинградка. И вдруг за что-то на нее взъелся ее командир взвода. Наверное, все-таки она не оправдала каких-то его определенных надежд, потому что потом я про него как о человеке слышал плохие отзывы.
И когда у нас однажды запланировали разведку боем, то пойти с наступающими он назначил именно ее... Но получилось так, что этот разговор состоялся при мне, и я видел, как она чуть не плача пыталась объяснить, что ей будет тяжело выполнить такое задание. А он ей говорил: "Ничего, ничего, голубушка. Привыкай, ты же солдат, а у меня других людей нет..". Глядя на все это, я решил ее выручить, и вместо нее отправил своего телефониста, а она осталась в расположении моей батареи. И хотя эта разведка боем по каким-то причинам не состоялась, но она была мне очень благодарна. Потом после войны, она меня нашла, и мы с ней до самого последнего времени переписывались. Но, честно говоря, и у меня тогда просто как камень с души упал, потому что я прекрасно понимал, какая бы на мне была моральная ответственность, если бы с моим связистом тогда что-нибудь случилось бы...
Как кормили на фронте?
Насчет питания я вам так скажу - это, смотря какие бои. Если напряженные, то тут уже, конечно, и не до еды. К тому же надо сказать, что в этом отношении мне было тяжелее всего из всех бойцов моей батареи. Я ведь сам корректировал огонь, поэтому почти постоянно был на передовой. А бойцы на батарее обычно и питание вовремя получали, и сто граммов, и даже спали, если была такая возможность. Поэтому когда я возвращался в расположение батареи, то мои бойцы относились ко мне с большим сочувствием.
А в принципе снабжение было налажено нормально, и откровенный голод мне пришлось пережить, только когда я выходил из окружения, тогда фактически пришлось только зернами пшеницы питаться. И еще когда мы маршем шли на Курскую Дугу. Обозы все отстали, поэтому какое-то время мы сидели только на болтушке из воды и муки... Вот тогда мы все действительно здорово оголодали.
Зато уже на самой Курской дуге мои солдаты даже отказывались получать питание с кухни. Мы стояли у села Коровино, и они там нашли ямы, в которых местное население хранило картошку и разные продукты. Но все местное население оттуда было эвакуировано, поэтому солдаты сами себе и готовили из этих продуктов. А наши узбеки разыскали яму с пшеницей, жарили ее, и их это так устраивало, что они вообще отказались от питания с нашей кухни.
А так у нас была самая обычная солдатская еда: каши, первое. Помню, как-то я пошел в запасной полк, чтобы набрать себе людей в учебный дивизион. И когда проходил мимо полевой кухни, то от нее так вкусно пахло вареной капустой, что мне вдруг так сильно ее захотелось. Я не удержался, попросил повара, и он меня угостил. И помню, что я тогда с таким аппетитом поел, все-таки приготовленное из свежих продуктов это гораздо лучше, чем любые консервы.
И только когда меня назначили командовать учебным дивизионом, то тут уже мне стали доступны просто немыслимые для фронта вещи. Я же вам рассказывал, что даже немцу в офицерском пайке принесли сосиски. Но это потому что, мой дивизион был в подчинении штаба дивизии, и снабжение тоже шло оттуда. И я еще помню, что в то время мой ординарец подружился с поваром командира дивизии, и через него однажды достал мне черный перец и горчицу - для фронта это просто немыслимое роскошество. Но я знаю, что в штабе дивизии можно было достать и какие-то сладости, и даже апельсинами с лимонами.
Но вы, например, на фронте о чем-то особом из еды не мечтали?
Нет, об этом на войне я вообще не мечтал, мне как-то даже такие мысли не приходили в голову. Но пару случаев "праздника живота" я помню.
Я когда оказался в Сталинграде после выхода из окружения, и сдал пакет в штаб армии, то меня вновь поставили на учет и выдали аттестат. Получил на складе продукты, и мне помимо всего остального выдали еще и "залом" - это такая большая и жирная каспийская селедка. Мне дали две штуки, обернули их в газету, но чтобы не перепачкать ими все, я понес их в руке. Иду по городу, кстати, Сталинград до того как в нем начались бои, мне понравился, красивый был город. А мимо на повозке проезжал какой-то мужик, увидел меня и говорит: "Парень, я за эту селедку могу отдать все арбузы", а у него в повозке их было штук двадцать или тридцать. Но куда мне столько? За одну селедку я взял у него всего один арбуз и полакомился им.
И был еще, например, случай, когда мы ехали из Сталинграда под Орел. Тогда мой писарь упросил меня отпустить его на три дня домой в Москву. И когда он вернулся, то привез с собой такие деликатесы, о которых во время войны мы успели позабыть: дорогую копченую рыбу, колбасы. Оказалось, что у него жена работала на каком-то складе. Ну, мы, конечно, устроили тогда небольшой пир.
А трофейное пробовали?
Пробовал, конечно. Под Сталинградом, кстати, прямо у моего блиндажа упал мешок с продуктами, которые немцы сбрасывали своим окруженным частям. Но в нем не было ничего особенного: галеты, шоколад, и, правда, был такой хлеб, который прямо в котелке можно было согреть, и он становился пышным и вкусным.
Многие ветераны хорошо вспоминают американские консервы.
Лично я, например, был не в восторге от них. У них был какой-то особый, неприятный для меня привкус, поэтому я часто отдавал свою долю желающим. Вместо этого я просил старшину сделать мне картошку с луком, вот это был для меня настоящий праздник.
А соблюдалось правило, не есть перед боем?
Нет, во-первых, еда на передовой одно из немногих доступных удовольствий, а во-вторых, об этом просто не думали, потому что никто заранее к смерти не готовился.
А как было с одеждой, снаряжением?
Вроде нормально. Помню, что зимой я носил полушубок и меховой жилет, а летом обычную гимнастерку. И вот, что я еще вспомнил. Представьте себе, но за все время на фронте каску я не одевал ни разу. Ни разу! Почему-то у нас никто на этом не настаивал, а вот в тылу пришлось. У нас в трибунале был приказ, что из расположения выходить только в каске. И как-то я пошел в одну часть, так там даже испугались, когда увидели меня в каске.
Вшивость сильная была?
Бывало, что да. Помню, как-то лежим с ординарцем, а то ли зима была, то ли поздняя осень, но одеты уже были тепло. Лежим рядом, и вдруг он говорит: "Вот пошла опять... Ну не сидится ей на месте..". А я вначале даже не понял о чем это он: "Одна вошь меня просто измучила, то на плече, то на пояснице..". А под Сталинградом была такая сильная вшивость, что я прямо охотился за немецким шелковым бельем, потому что настолько мучительно это все переносил.
И там же у меня был один курьезный случай, можно даже сказать анекдотический. Уже после завершения боев я лежал в блиндаже, но все никак не мог заснуть. Стояла настолько непривычная для фронта, какая-то гнетущая тишина, от которой действительно можно было оглохнуть. Буквально ни единого выстрела, ни разрыва снаряда или мины.
И вдруг раздалась автоматная очередь, одна, вторая, и я мгновенно заснул. А утром мне рассказали, что один из моих солдат измученный вшами, скинул нижнюю рубаху и стал ее расстреливать из автомата... Все, конечно, посмеялись, а я его даже поблагодарил: "Спасибо, браток, а то бы я так и не заснул".
И с вшами у меня, кстати, есть еще одна история, которая произвела на меня весьма гнетущее впечатление. Как-то еще в 42-м году мы пошли помыться в банный поезд, я уже и не помню, где это было. Нас там всех нас обрили, помыли, прожарили нашу одежду, и мы получили долгожданное облегчение. Но во время помывки в этом поезде меня просто поразила одна картина. Там вместе с нами оказался один парень, причем уже достаточно взрослый, лет 23-24-х, так у него на голове вши просто кишели... И я его даже спросил: "Как же ты умудрился довести себя до такого состояния?" - "Так ведь все равно умирать..". Но, что меня особенно поразило, что он оказался учителем... И вот эта картина произвела на меня очень тяжелое впечатление, что человек сам себя уже заранее похоронил... Но я вообще успел заметить, что на фронте гораздо лучше приспосабливались спортивные ребята, а всякие маменькины сынки наоборот.
А бывали конфликты между солдатами? Могло, например, такое быть, чтобы в спину друг другу стреляли? Вообще, как было с дисциплиной?
Лично мне с подобными случаями сталкиваться не приходилось, но я думаю, что такое вполне могло быть, и, наверное, было. Потому что в армию попадали совершенно разные люди, да и многие командиры-самодуры откровенно побаивались выстрела в спину. Я считаю, что на фронте в этом отношении офицеру надо быть очень аккуратным, ведь кругом все вооружены... Однажды мне как-то знакомый командир роты признался, что остерегается одного бойца, хотя он просто требовал с него, как и со всех остальных. Но тот солдат был прежде судимый, нахалистый такой. А потом, пойди, разбери, кто кого в бою застрелил...
И между собой солдаты могли подраться, но не сильно, так, кто-то влепит кому-то оплеуху и все. А поводы для этого могли быть самые разные. Например, кто-то сказал что-то обидное в разговоре, а другой из-за этого психанул, но таким эксцессам особого внимания не придавалось.
Я считаю, что там, где в составе подразделения преобладали люди со средним образованием, то это многое значило. К тому же у нас была сильная комсомольская организация, а старшина и еще пару человек в годах были коммунистами, так что у нас в отношении дисциплины был порядок.
Но был еще один такой важнейший момент, который необходимо учитывать. У нас, минометчиков, потери по сравнению с пехотой были просто несравнимы, поэтому все солдаты за свои места держались, и не хотели, чтобы их выгнали с батареи и отправили в пехоту.
А вот к вам солдаты как обращались? Не было проблемы панибратства?
Никакого панибратства не было, меня солдаты называли только по званию, товарищ гвардии капитан или товарищ комбат. А я их по фамилиям, хотя ординарца обычно мог звать просто по имени.
Вот только одно время у меня был один командир взвода, у которого я замечал такие моменты, но надо сказать, что как раз со стороны солдат к нему и было соответствующее отношение, и уважением у них он не пользовался.
Вот вспомнился еще такой случай. Это было уже где-то на 1-м Прибалтийском Фронте. Было слякотно, мы зашли в один дом, но я не мог сам разуться, поэтому попросил своего ординарца помочь. И тут слышу, как хозяин дома тихонько говорит своей жене: "Ну, вот опять погоны, опять денщики, опять его разуй..". А я ведь просто по-товарищески попросил его помочь, и точно также сам бы мог ему помочь.
Какой транспорт был у вашей батареи?
Все время только повозки. Но и то считалось, что это мы еще неплохо живем, потому что я насмотрелся, как в других батареях солдаты таскали на себе 82-милиметровые минометы...
А вам приходилось стрелять трофейными 119-милимметровыми минами?
Приходилось, но только ради спортивного интереса, потому что у нас всегда в наличии были свои боеприпасы.
А доводилось слышать, что немцы против нас использовали наше же оружие?
Нет, я такого ни разу не видел и даже не слышал.
А можете сказать, что какое-то немецкое оружие особенно не любили?
Не то чтобы неприязнь, но вот раздражение вызывал их шестиствольный миномет, как его у нас называли, "Ванюша". Он, конечно, заметно уступал нашей "Катюше", просто при стрельбе он издавал противный звук, и у нас про него шутили примерно так: "Если наша "Катюша" секанет, то их "Ванюша" сразу заткнется".
А я еще в 42-м году в первый раз увидел работу наших "Катюш". Было такое впечатление, что на том месте, где упали реактивные снаряды, землю словно перепахали.
А вам часто приходилось использовать трофейное оружие?
Сразу вспоминается такой случай. Мы когда только вошли в Сталинград, то ночью не зная обстановки забрались на второй этаж какого-то здания и там расположились. И как потом оказалось, что на третьем этаже были немцы. Но мы то этого не знали, и вели себя достаточно свободно, человек пять нас было: я, мой ординарец, командир взвода управления, телефонист, и как раз тогда мне прислали нового замполита.
И вдруг утром увидели немцев, когда они по разрушенной лестнице поднимали завтрак к себе наверх, а потом мы услышали, что они там спокойно разговаривают и ходят. Правда, они нас не видели, хотя когда мы их заметили на лестнице, то между нами было метров двадцать всего. Я еще подумал тогда: "Вот обнаглели!"
И пока мы думали что делать, у них наверху поднялся какой-то шум, вроде даже началась перебранка. А у нас каким-то образом там оказался трофейный пулемет MG-34, даже не знаю, кто его туда приволок. И тогда замполит, оказалось, что он уже был с фронтовым опытом, и пришел к нам на батарею из госпиталя, взял этот пулемет и со словами: "Ну, сейчас вы у меня попляшете", начал стрелять из него прямо сквозь потолок, крест-накрест. Пули потолок прошивали насквозь, поэтому немцы, их оказалось трое, повыпрыгивали в окна.
Ну, и, конечно, трофейное оружие использовали в окружении под Харьковом. Тогда я впервые попробовал немецкий автомат, но у меня с ним явно не сложились отношения, и я потом никогда им не пользовался. Я всего один раз попытался из него пострелять, но у него был тугой затвор, мне им прищемило палец, пошла кровь, и я решил, что с меня достаточно.
Вопрос вам как бывшему летчику. Как менялось по ходу войны положение с господством в воздухе?
Вначале безраздельно господствовала немецкая авиация. И только на Курской дуге мы впервые почувствовали, что наша авиация нас надежно прикрывает, и именно там бомбежки уже стали редкостью. Немцам тогда фактически просто не давали нас бомбить, во всяком случае, в расположении нашей дивизии. Тогда я даже удивился, сколько там было наших самолетов. И вот тогда я понял, что авиация у нас стала совершенно другая, не то, что в мое время.
А после Курской дуги нам тоже иногда приходилось попадать под бомбежку, но уже, во всяком случае, это было не сравнить с 41-м или 42-м годом. Тогда было такое ощущение, что немецкие корректировщики огня "рама" и "горбыль" как будто родилась с нами, потому что почти постоянно висели над нами.
Вам самому пришлось повоевать в разных родах войск. Как вам кажется, чья доля все-таки тяжелее?
Мне, кажется, все-таки у пехоты, именно пехотинцы несли на себе основную тяжесть войны. Недаром у артиллеристов была даже такая поговорка: "Отстрелялся, не гордись, а пехоте поклонись", потому что именно пехотинцы шли в атаку.
Кстати, один раз мне пришлось видеть одну очень необычную атаку. На Курской дуге через позиции нашей батареи в контрнаступление пошли свежие части. И меня поразило то, что они шли точно так, как показана психическая атака капелевцев в фильме "Чапаев". Их командиры шли на фланге, и кричали: "Держать строй". В общем, шли буквально, как на параде, но, правда, я не видел, как они потом вступили в бой.
Еще я знаю, что очень тяжелая доля у саперов, просто тяжелейшая. А вот, например, танкистов я особенно и не видел, и эта среда мне совсем не знакома. Но на Курской дуге танковое сражение развернулось прямо перед нами, и тогда мне пришлось видеть, как горящие танкисты выпрыгивали из танков - это, конечно, страшная картина...
А вот, что было на фронте самое страшное лично для вас?
Для меня самым тяжелым были встречи с простыми людьми, которые страдали от войны еще больше, чем мы. И мы, солдаты, не могли их защитить, поэтому были как обвиняемые... Лично на меня такие моменты действовали очень и очень сильно... И еще мне на нервы очень действовало то, что нас вечно ограничивали в расходовании боеприпасов.
Но вообще я вам должен сказать, что для меня самым сложным оказалась даже не сама война, а мое становление после тяжелого ранения уже после войны.
Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы как раз отвлеклись на том моменте, когда вас в последний раз ранило.
Очнулся я, насколько помню оттого, что с меня два солдата из похоронной команды хотели снять валенки. Но потом они увидели на мне капитанские погоны, и вроде как сквозь сон я слышал их спор, стоит ли со мной связываться: "Ну, этот не жилец". - "А ты не каркай, давай носилки". Доставили меня в медсанбат, причем, когда стали меня перевязывать, то я начал жаловаться, что у меня вроде и нога ранена, потому что чувствовал, что она у меня совсем не действует. Врачи ее осмотрели, ничего не нашли, но догадались, что все это у меня из-за ранения в голову.
И там же я вдруг случайно увидел своего ординарца, которого перевязывал перед самым ранением, и мы с ним обменялись несколькими фразами. Это, кстати, к нашему разговору о судьбе.
Он был смышленый, расторопный парень, но мне пришлось его сильно уговаривать, чтобы он пошел ко мне в ординарцы. И тогда он мне примерно так сказал: "А вы знаете, что люди уже боятся к вам в ординарцы идти? Этот погиб, тот погиб, третий погиб, так что вы приносите несчастье..". Но потом я его все-таки уговорил, и когда мы с ним тогда в последний раз виделись, то он мне так шутя, сказал: "Ранен, но зато и не убит".
А в полевой госпиталь меня отправили на По-2. Причем, я до этого даже и не видел никогда таких санитарных самолетов, и когда мы летели очень низко над землей, то я подумал что все, это последний в моей жизни полет... Выгрузили меня и одного раненого солдата, нацмена, занесли в какое-то здание, и положили на нары. А на грудь нам положили по бутерброду с маслом, и что-то еще. А мне и так плохо, есть не могу и не хочу, к тому же и рука еще не действовала, как и нога, она была недвижима. И вот так я лежал и наблюдал за ним. Он то украдкой посмотрит на мой паек, то отвернется. Опять посмотрит, отвернется. А потом вдруг взял его резко и съел. И я его за это не осуждаю, он видно очень голодный был.
Но что интересно. До операции, которую мне сделали в этом полевом госпитале, у меня хоть и был паралич руки и ноги, но зато я все понимал и мог говорить. Причем, я даже не верил, что у меня серьезное ранение в голову, и меня отправят в специализированный госпиталь, потому что даже крови почти не было. Думал ерунда, вот только почему-то не действуют ни рука, ни нога... И только потом я начал чувствовать, что у меня в голове будто что-то тяжелое осело.
А вот во время операции врачи видно, что-то повредили, и после нее я уже мало что помнил и понимал. Во время операции я слышал диалог врача очевидно с медсестрами. Причем, хирург говорил, с таким характерным кавказским акцентом, и вначале я слышал, как он жалуется, что никак не может найти осколок, и только потом я услышал, что они его все-таки нашли. И последнее, что помню, как мне предложили оставить на память этот осколок, и вот только тут я уже потерял сознание.
Отправили меня в специализированный, как мы говорили, черепной, госпиталь в Ярославле. Но после этой операции я не помнил ни кто я такой, ни как меня зовут, вообще ничего... Причем, в госпитале, где мне сделали операцию, меня узнала, хоть я и был весь перебинтованный, одноклассница моего брата Николая, но она меня принимала за него. Я вообще с трудом понимал даже простую речь, у меня были сильнейшие головные боли, и чтобы она от меня отстала, а она меня спрашивала Николай ли я, то я согласился.
А потом у меня начались еще и галлюцинации, мне казалось, что какая-то физиономия гримасничает, и показывает мне язык.
Но самое страшное, что если раньше я хотя бы понимал, что говорят другие, то какое-то время после операции даже самые обычные слова были для меня только набором звуков. Я вроде помнил, как они звучат, а вот, что означают, забыл... А ведь я еще на фронте слышал такое, что при ранении в голову человек иногда становится фактически живым трупом: ничего не помнит, и даже двигаться не может...
И только постепенно ко мне начали возвращаться какие-то воспоминания. Вначале я вспомнил родителей, что-то еще, а попробовал ходить только спустя три месяца... Я очень стеснялся своей немощности, поэтому попытался самостоятельно ходить ночью. Но не рассчитал свои силы, упал на лестнице, ударился головой и потерял сознание. А утром меня предупредили, что если я получу еще один ушиб головы, то все лечение пойдет насмарку...
Всего в ярославском госпитале я пробыл четыре месяца, и на комиссии услышал окончательный приговор: "К военной службе не годен. Инвалид первой группы, нетрудоспособен. Направляется по месту жительства родителей в сопровождении медсестры". Вы себе даже не представляете какое я тогда испытал разочарование... Ведь я так хотел вернуться на фронт в свою дивизию, а меня записали в инвалиды...
Но я когда потом эту ситуацию оценивал, то пришел к выводу, что и тут мне крупно повезло. Ведь еще будучи в Ярославле я случайно узнал, что больше половины раненых нашего госпиталя стали пациентами психиатрической лечебницы... А как я это узнал.
Когда я уже понемножку начал ходить, то однажды вышел на улицу. А это лечебница была совсем близко к нашей больнице, буквально на другом конце квартала. И когда я дошел до нее, то один из ее пациентов из окна мне крикнул "Ничего, ничего, скоро и ты у нас будешь..". Он видно увидел или понял, что я из того госпиталя. Я, правда, сам тогда ничего не понял, спросил врача, и он мне объяснил, что это психиатрическая лечебница, и что очень много раненых из нашего госпиталя попадают прямо туда...
А вообще в госпитале я насмотрелся разных горьких историй. Помню, как-то к нам привезли какого-то молодого лейтенанта, москвича. У него из затылка врачи достали очень маленький, буквально крохотный осколочек. Но этот осколок видно повредил центр зрения, и парень ослеп...
Наш госпиталь был, как мы его называли черепной, но в нем лежали еще и с ранениями в позвоночник. И была такая история. Одному парню должны были сделать операцию на позвоночнике, после которой он по прогнозам врачей должен был выздороветь. Но одна пожилая медсестра перепутала лекарство, сделала ему не тот укол, и его до пояса полностью парализовало... И хотя она сама страшно казнилась, но ее никто так и не выдал... Приходили, правда, из "особого отдела" разбирались, но дело оказалось непоправимое... Так что мне еще можно сказать повезло...
Отправили меня домой, но в сопровождение дали медсестру, потому что я сам мог ходить только на небольшие расстояния, к тому же рука у меня еще не действовала совсем. И по дороге в Свердловск произошел эпизод, который произвел на меня огромное впечатление, а может и вообще решил мою дальнейшую судьбу. У сопровождавшей меня медсестры был с собой медицинский журнал, и я до сих пор не знаю, намеренно она это сделала или нет, но она его оставила открытым на странице, где была статья про слепоглухонемую от рождения девушку, которая с таким страшным диагнозом сумела окончить не только школу, но и институт. Причем, эта небольшая заметка была отчеркнута красным карандашом. И когда я прочитал эту статью, то меня словно разбудили. Я понял, что приложу все силы для того, чтобы не смириться с участью инвалида.
К тому же, когда мы уже подъезжали к Свердловску, то я случайно встретил знакомых ребят из нашей школы. Мы разговорились, и они меня начали уговаривать поступать к ним в Свердловский политех. И эта встреча меня тоже как-то очень приободрила, потому что все они тоже все были после фронта и ранений, но уже учились, поэтому моя надежда стать полноценным человеком еще более окрепла.
Но когда встал вопрос, что мне делать дальше, то я решил поступать в Свердловский юридический институт.
А почему вы решили поступать именно в юридический?
По службе в трибунале мне уже была знакома следственная работа. И я решил, что если на этой очень трудной и напряженной работе я не выдержу, то придется примириться с участью инвалида войны. Но я верил, что смогу преодолеть свою болезнь, а упорства в достижении цели у меня было достаточно.
Но когда я принял решение готовиться к поступлению, то понял, что ни писать, ни тем более конспектировать просто физически не могу... Тогда моя мама обратилась к одному известному нейрохирургу, и ночью я случайно услышал, как она передала отцу его вердикт: "Надо примириться, мамаша. Ни учиться, ни работать он после такого ранения уже не сможет. Но пенсию он получает приличную, так что иждивенцем не будет..".
И вот эти его слова стали для меня последней каплей... Они меня настолько возмутили, что я твердо решил, во, что бы то ни стало стать полноценным человеком, и наметил себе план работы. Прикинул, что пехотинец проходит в час четыре километра, и начал до изнеможения ходить по нашей квартире, из кухни в комнаты и обратно. Потом потихоньку начал выходить из дома, стал ездить на велосипеде, а потом и гимнастические упражнения стал делать. И за семь-восемь месяцев в физическом плане я достиг очень многого, но думаю, что в этом мне сильно помогло мое спортивное прошлое.
Но ведь у меня были еще и большие проблемы с речью, поэтому, что я стал делать. Когда все уходили на работу, я заводил на граммофоне пластинку, Лемешева, и прямо пел за ним, как мог. Вот так я разрабатывал речь и вспоминал значение слов. И вы знаете, постепенно я восстановил речь, хотя некоторое косноязычие у меня еще определенное время сохранялось. И писать тоже пришлось учиться фактически заново: сначала волнистые линии, затем палочки и нолики, прямо как в первом классе...
Но когда я пришел подавать документы в институт, то на меня там посмотрели, и начали отговаривать: "Может, с вашим здоровьем лучше пойти в педагогический? А то у следователей, прокуроров и судей работа, ох какая нелегкая..". И, правду сказать, выглядел я тогда совсем неважно, да и в медицинской справке, которую надо было предоставить комиссии, было написано, что я инвалид... К тому же прямо там у института со мной случился очередной приступ...
Но я настаивал на своем, и из-за меня в приемной комиссии даже вышел спор. Я стоял за дверью, и слышал, как кто-то из членов комиссии в конце сказал фразу, которая определила мою дальнейшую жизнь: "Да поймите же: если мы его не примем, то у него всего одна дорога - в инвалидный дом..".
В общем, приняли меня, но когда мне казалось, что я уже почти полностью восстановился, то беда пришла оттуда, откуда и не ждал. Когда начали изучать уголовное право, то моя голова вообще ничего не воспринимала: ни что такое вина, виновность, случайность и прочее. Начинались сильные головные боли, и я был вынужден просто откладывать учебник. Но в такие моменты я всегда вспоминал ту заметку из журнала о слепоглухонемой девушке, которая смогла стать кандидатом наук. И мысли о ней меня словно подхлестывали: она смогла, а я нет?!
И вы знаете, постепенно все наладилось. Учился я отлично, и поэтому мне даже не дали закончить институт. Уже после окончания второго курса меня как отличника рекомендовали на работу в прокуратуру Кировского района Свердловска: "Учебу закончите заочно. В районе сложная обстановка, и там нужно навести порядок".
А последствия ранения сильно мешали в работе?
Как раз во время работы в Нижне-Салдинском районе, когда меня уже назначили прокурором, у меня случился последний припадок, причем, прямо в тайге. Там между ближайшими селами расстояния по двадцать-тридцать километров, поэтому в командировки я летом ездил верхом на лошади, а зимой на санях. И последний припадок у меня случился как раз в такой ситуации.
Правда, всегда за несколько минут до приступа я уже чувствовал его приближение, поэтому намотал поводья на руку, и очнулся уже на земле, а надо мной склоненная голова лошади ... Но после этого как обрезало, хотя до этого припадки регулярно случались раз в месяц. Поэтому во время учебы я больше всего боялся, что припадок случится прямо в аудитории и меня отчислят. Но на мое счастье они случались или рано утром или ночью. И потом я всю жизнь скрывал, что являюсь инвалидом войны, потому что какой из инвалида может быть следственный работник? А о том, что я инвалид войны я признался только где-то на праздновании 50-летия Победы. Но когда врачи узнавали, где я работаю после такого ранения, то они очень удивлялись.
Как вы услышали о победе?
В те дни, конечно, мы ждали ее со дня на день, мой отец, например, даже радиоточку не выключал, чтобы не пропустить это известие, но все равно получилось это уж как-то слишком неожиданно. Я шел по улице, еще в военной форме, и тут меня подхватили прохожие и начали качать. В чем дело? Оказалось Победа...
Но надо вам сказать, что мы ее совсем никак не отметили. И хотя у всех было приподнятое настроение, но, например, у меня дома мы даже стол не накрыли, не говоря уже о выпивке. Об этом у нас в семье как-то совсем не думали, да и с выпивкой тогда было очень тяжело. Отец мне рассказывал, что во время войны водку им лишь иногда выдавали в качестве премии за отличную работу.
Ну а так, конечно, вначале была одна только радость. Несколько дней у всех людей было очень приподнятое настроение, даже у тех, кто пострадал и остался калекой. Но в то же время, была и горечь и слезы о тех, кто не вернулся с войны...
Помню, как-то я пошел к товарищу, которого комиссовали из армии из-за сложного ранения в руку. Вышли с ним во двор, и тут как раз появились мать и сестра другого нашего приятеля детства, который погиб на фронте. И они нам тогда с такой укоризной сказали: "Вот вы живы, а у нас и отец и сын погибли..".
А из вашей семьи еще кто-то воевал?
Средний брат, Владимир, погиб на фронте еще в 1941 году, а младший Николай тоже воевал, был связистом. Но у нас получилось так. Когда началась война, то мы втроем между собой договорились, чтобы поберечь родителей, написать в своих медальонах адреса друг друга, чтобы в случае чего похоронка не пришла домой.
Поэтому о гибели Володи я узнал первым... И только через год, а то и через два после войны я попытался подготовить отца к этой новости, а он мне говорит: "Да я разговаривал с одним рабочим, который служил в одной части с Володей, и якобы на его глазах он попал под немецкий танк..". Тогда я понял, что он все знает, но он же сам меня и предупредил: "Только матери ни слова..".
Володя ведь был ее любимчик, потому что родился недоношенный и его буквально только чудом и спасли. Постоянно держали на печи при определенной температуре и все-таки выходили. Поэтому отношение к нему со стороны родителей было несколько иным, чем к нам с Колей. Мы с младшим росли как сорванцы, а он был более домашний, и поэтому мы считали, что он не нашего поля ягода. Зато в футбол он играл просто мастерски. Уже с шестнадцати лет его приглашали играть за взрослую команду, и я помню, был такой смешной случай. Во время матча к нему подбежал защитник соперников и спросил его: "Мальчик, а ты как тут оказался?", а Володя в это время забил гол...
В общем, пока была жива наша мама, а умерла она только в конце 80-х, то мы ей так и не сказали, что ее любимый сын погиб, и старались этой темы вообще не касаться. Она все надеялась, что может быть он попал в плен, или по какой-то причине не может дать о себе знать...
А младший брат Николай служил связистом, насколько я знаю, обеспечивал связь в звене между фронтом и армией. После войны он остался служить в армии и в последнее время служил командиром батальона связи на Байконуре. Кстати, в 1960 году он как раз находился там, когда на стартовой площадке взорвалась ракета, и погибло около ста человек, в том числе и главнокомандующий РВСН главный маршал артиллерии М. И. Неделин. Брат мне рассказывал, что только успел, спустился в бункер, как произошел взрыв, и только благодаря этому он и уцелел.
Но во время войны я вообще не знал, где воевали мои братья, знал только номера их полевой почты. А сам я, помню, однажды прямым текстом написал домой, где воюю, но отец мне потом показывал это письмо, и там было все замазано.
Как сложилась ваша послевоенная жизнь?
Я работал вначале в прокуратуре, потом меня отозвали на работу в Свердловский обком партии, и уже оттуда, кажется, в 1959 году я поехал поступать в военно-юридическую академию. Просто до этого к нам приезжал полковник, который подбирал людей для адъюнктуры. Я ему видно чем-то понравился, потому что он мне сказал: "Я бы вас с удовольствием взял". - "Так я же по инвалидности снят с воинского учета". - "Но я же вижу, что вы с работой справляетесь. Так неужели вы не справитесь с учебой? Если сможете уговорить военкома понизить вам группу инвалидности до третьей, то мы вас сможем взять как годного к нестроевой". Я этой идеей загорелся, но первая комиссия категорически отказалась мне понижать группу инвалидности, и только после того, как из обкома по моей просьбе позвонили, мне сделали третью группу, да и то всего на шесть месяцев.
Но только я приехал в Москву и сдал экзамен, как Хрущев выступил с речью, что в Советском Союзе перепроизводство юристов... Академию тут же закрыли, годных к строевой перевели в военный институт, а меня направили в резерв Генерального Прокурора.
А как раз в это время Прокуратуре Молдавии понадобились квалифицированные кадры, но я не дал своего согласия на перевод. Просто до этого я поговорил со знающими людьми, и они мне рассказали, что в национальных республиках серьезной проблемой является языковой барьер. Но они то служили в Прибалтике или Закавказье, и не знали, что в Молдавии с русским языком дела обстоят совсем по-другому.
Я вернулся в Свердловск, где работал в должности заместителя начальника следственного управления прокуратуры области, и только в 1960 году по приказу Генерального Прокурора СССР был направлен в распоряжение прокуратуры МССР.
С тех пор живу в Кишиневе. Работал в органах прокуратуры, а в 1979 году меня наградили почетным званием "Заслуженный юрист Молдавской ССР".
Причем, интересно, что на пенсию я уходил дважды. В первый раз уходил с должности заместителя начальника уголовно-судебного отдела в 1985 году, и надо признаться, что эта работа была мне не по душе, работать по следствию мне нравилось гораздо больше.
А потом, уже после развала Союза меня опять пригласили поработать, потому что, когда разогнали всех русскоязычных работников, то просто некому стало работать. Доходило до того, что в следственные органы МВД и КГБ, стали набирать простых студентов... И когда прокурор Молдавии лично попросил меня выйти на работу, то я думал, что это временно, а проработал лет пять или шесть. Работал уже прокурором по надзору за следствием в "Службе Информации и Безопасности".
Семья, дети у вас есть?
У меня две дочери, две внучки и трое правнуков.
Войну потом часто вспоминали? Может снится вам она?
Я после ранения снов совсем не вижу. А войну мы вспоминали обычно при случае в разговоре, но в основном какие-то смешные истории.
Но вообще, я вам так скажу. Война - это большой и важный кусок моей жизни. Фактически она разделила мою жизнь на две части, войну и послевоенную жизнь, и даже я сам до сих пор не знаю, какая часть получилась более весомой...
Вам приходилось видеть правдивые книги и фильмы о войне?
Пожалуй, самая правдивая книга, которая произвела на меня глубокое впечатление, потому что так получилось, что и у меня самого были схожие эпизоды это - "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова. Например, там есть такая сцена, когда герой лег в каком-то сарае поспать, а в это время начался налет немецкой авиации, и когда начали стрелять наши зенитки, то по крыше забарабанили падающие осколки от снарядов. Со мной был точно такой же случай.
Могу также отметить книги Юрия Бондарева и Григория Бакланова, они сами фронтовики и пишут очень близко к правде. Еще могу выделить "Эшелон" Михаила Рощина, правда, он сильно перебарщивает с солдатскими побасенками и трепотней.
Многие ветераны с обидой отмечают, что о войне и раньше и сейчас недостаточно говорят и вспоминают.
Я тоже помню, очень сильно удивился, с каким размахом отмечали, кажется, 30-летие победы. Тогда это было впервые настолько широко, с парадами, а ведь до этого ничего подобного не было. Но обиды или какого-то разочарования у меня на этот счет никогда не было.
Правда, когда сейчас в Европе и Америке стали принижать нашу роль в войне и нас же учить, это, конечно, оставляет определенный осадок. Я когда сейчас смотрю на этих "учителей", то так и хочется у них спросить: "Где же вы были господа, когда нам было тяжело?.".
Зато я считаю, что в отличие от нынешних поколений у нас была стойкая вера и надежда в светлое будущее и лучшую жизнь. А сейчас наш народ стал совершенно другой... В чем я вижу основные, и к огромному сожалению, негативные изменения. Куда-то пропали коллективизм и стремление помочь человеку попавшему в беду, а не замыкаться каждому в своей скорлупе. А сейчас появилась эта тяга, погоня за деньгами, которая сильно испортила наших людей... И я считаю, что главный порок капитализма именно в этом. Конечно, и в наше время было много плохого, и жили мы тяжело, но все же с нынешним положением просто не сравнить...
| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |